
Ричард Бернстайн
Восток, Запад и секс. История опасных связей
Посвящается Чжунмэй
Я устал трепать подметки по булыжной мостовой,
А от лондонской погодки ломит кости не впервой.
Здесь прислуги целый ворох, пьешь-гуляешь без забот,
Дурь одна в их разговорах: кто любви-то ихней ждет?
Жидкий волос, едкий пот…
Нет, меня другая ждет,
Мой душистый, чистый цветик у бездонных, сонных вод,
На дороге в Мандалай…
This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Random House, Inc.
© 2009 by Richard Bernstein. All rights reserved
© Т. Азаркович, перевод на русский язык, 2014
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2014
© ООО "Издательство ACT", 2014
Издательство CORPUS ®
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
* * *
Захватывающее, доступное и очень глубокое исследование.
Изящно написанная книга, в которой автор деликатно и с завидным знанием истории рассказывает об этой сложной теме.

Глава 1
Богема у себя дома и на чужбине
Примерно в 2006 году один преподаватель английского языка в Шанхае разместил в интернете сообщение, где хвастался той легкостью, с какой он заводит сексуальные отношения с молодыми китаянками, по большей части – со своими бывшими студентками. “В субботу я встречался со Звездой, – писал он. – В воскресенье – с Инъин. Между этими встречами я связывался через MSN с Вишенкой. Я звонил Рине и по эсэмэс флиртовал с Тюльпаном. Я послал Сьюзан игривый и-мейл и в блоге Венди признался ей в любви”.
Автор этих подробных любовных мемуаров в своем блоге “Секс в Шанхае: откровения западного негодяя” называл себя Китайским Прощелыгой. По-видимому, он был британцем. Так или иначе, он не указывал своего настоящего имени и не сообщал каких-либо подробностей, позволявших установить его личность. Такой недостаток смелости, пожалуй, оказался спасительной предосторожностью, если вспомнить о той ярости, которую его признания вызвали среди китайцев.
Травлю возглавил Чжан Цзехай, профессор психологии Шанхайской академии общественных наук: он опубликовал длинную статью под названием “Интернет-охота на аморального иностранца”, где призывал весь китайский народ выследить этого человека, оскорбившего и унизившего Китай, и вышвырнуть его из страны. “Несколько дней назад один друг рассказал мне про блог, который ведет англичанин в Шанхае, – писал Чжан. – Я прочел его и испытал шок, гнев и отвращение”. После обширного, пересыпанного цитатами обзора откровений блогера Чжан закончил статью призывом ко всем китайцам приступить к действиям. “Вы только подумайте о том, как этот иностранец-подонок поступил с вашими сестрами и поглумился над вашей импотенцией, – писал он. – Или вы хотите сказать, что все это пустяки? Вам по-прежнему хочется обращаться с иностранцами как с важными особами? Вы по-прежнему дрожите, когда видите иностранцев? Пришла пора разогнуть перед ними спины!”
Рассказ блогера-иностранца наполнен всевозможными подробностями, которые могли бы помочь выследить его, уверял Чжан. Например, Китайский Прощелыга описывал гостиничные номера, где назначал свидания своим бывшим студенткам, – быть может, удастся отыскать эти номера и установить аморальную личность по записям в гостиничной регистрационной книге. Возможно, его зовут Брайан, говорил Чжан (хотя в 2008 году газета “Гардиан” сообщала о человеке по имени Дэвид Мариотт, заявившем, что Китайский Прощелыга – это он). Он раскрывал некоторые сведения о своих партнершах по сексу (например, что женщина, которую он называл Тинтин, была замужем и работала врачом), так что если сложить воедино все эти клочки и обрывки информации, то можно вычислить иностранца. “Соотечественники! Давайте сплотимся и сообща займемся интернет-охотой на этого иностранца-подонка, а потом пинком под зад вышибем его из Китая!” – призывал Чжан.
Здесь следует заметить, что если вовлечение женщин в проституцию в Китае считается противозаконным, то не существует никакого закона, направленного против добровольных сексуальных отношений между взрослыми людьми, даже если один из этих взрослых – хвастливый иностранец, а другая – невинная китаянка. Китайский Прощелыга, похоже, не нарушил закон, и по-видимому, китайская полиция не предпринимала никаких попыток найти его и обвинить в чем-либо. Однако обнародование его похождений вызвало небывалый взрыв сексуального национализма среди китайских мужчин, изливших чувства на интернет-форумах, обрушив свою ярость не только на Китайского Прощелыгу, но и на его бывших студенток, которые, судя по его признаниям, спали с ним. Если его самого называли аморальным и порочным, то про студенток говорили, что они запятнали не только самих себя, но и свою страну, уступив желаниям этой “белой обезьяны” (по выражению одного из комментаторов).
“Все эти женщины – сучки, – сказано в одном из типичных мужских комментариев. – Они променяли свою честь на деньги [хотя на самом деле Китайский Прощелыга ни разу не упоминал о том, что давал своим партнершам какие-то деньги, – похоже, все они охотно шли навстречу его ухаживаниям]. Лучше было бы переспать с собакой, чем с этой иностранной свиньей. Это унижение для всех китайских мужчин и вообще для всего китайского народа. Мне стыдно за этих женщин перед их родителями и друзьями. Эти женщины хуже проституток”.
Китайский Прощелыга в свою очередь отвечал в подобном же тоне, помещая новый пост в своем блоге и обзывая профессора Чжана “психом”, “эпилептиком” и “махровым националистом”, хотя, что бы кто ни говорил об этой грязной перепалке, профессор Чжан хотя бы не прятался под маской анонимности. Так или иначе, блог Китайского Прощелыги благодаря всеобщему вниманию, которое привлек к нему Чжан, вскоре был заблокирован китайской интернет-цензурой, а сам блогер принялся писать уже из другого места – из Таиланда, где, продолжая свое повествование о покорениях китайских женщин, рассказал о том, как соблазнил представительницу китайской торговой делегации, с которой познакомился в вестибюле гостиницы, и как она попросила его “сказать, что она проститутка”.
Ну и ладно. Мы – с некоторым сожалением – еще вернемся к Китайскому Прощелыге и его блогу. Но вначале зададим себе вопрос. Представим подобную ситуацию, только вывернутую наизнанку: учитель китайского приезжает в США или в Британию и принимается хвастаться в интернете тем, со сколькими американками или британками он переспал, с какой легкостью он склонял их к легкомысленным, ни к чему не обязывающим сексуальным отношениям и насколько он сам сексуально привлекательнее, чем “слабосильные” местные мужчины. Неужели хоть кто-нибудь заметит его признания или обидится? Быть может, парочка моралистов, стоящих на страже сексуальной нравственности, и покосится в его сторону, но в целом подобные откровения, если только они вообще привлекут чье-либо внимание, будут расценены как субъективное хвастовство отдельно взятого азиата. Ни один уважаемый профессор из солидного исследовательского института не станет призывать своих оскорбленных соотечественников к охоте на подлого обидчика, не последует ни всплесков националистического возмущения, ни публичных заявлений о том, что вся гордая страна подверглась унижению. Так в чем же дело? Каковы скрытые причины, которые привели к буре страдальческих протестов и обвинений в Китае?
Из эпизода с анонимным учителем английского можно сделать целый ряд выводов. Во-первых, его хвастливые признания стали крайне вульгарным выражением той позиции, которую западные мужчины занимали в Азии уже в течение многих веков. Китайский Прощелыга мог позволить себе такие вольности с местными женщинами, о которых он, наверное, и не мечтал у себя на родине, – или, во всяком случае, там обстоятельства оказались бы гораздо сложнее. Я понимаю, что это спорное утверждение. Ведь и в Соединенных Штатах, и в Британии – да и в Китае – немало мужчин имеют связи с несколькими сексуальными партнершами одновременно. Но уже сам факт, что Китайский Прощелыга завел блог такого рода, доказывает, что в Китае он нашел нечто исключительное, что там возможности для эротических развлечений разительно отличались от имевшихся у него на родине. И исключительным ему казалась не просто легкость и многочисленность описанных встреч, а их полнейшая случайность. На возможности, которые предоставлял ему Китай, указывало взятое им прозвище Прощелыга – пройдоха, беспринципный искатель наслаждений. Из этого следует, что успех, которого он без малейших усилий добивался у молодых китаянок, отнюдь не давался бы ему так легко, если бы он ухаживал за более искушенными и куда менее податливыми женщинами на родине. И потому кажется маловероятным, что китаец – учитель китайского языка, оказавшись где-нибудь в Ливерпуле, Лондоне или Нью-Йорке, нашел бы среди своих студенток сразу нескольких девушек, желающих переспать с ним, что он мог бы флиртовать с ними в такой вольной манере или говорить с ними об их физических достоинствах так, как Китайский Прощелыга говорил со своими шанхайскими подружками.
“Моя милая Тинтин, – писал он замужней любовнице (как раз этот фрагмент блога гневно цитировал Чжан, доказывая порочность Китайского Прощелыги), – у тебя такое красивое, удивительное, чудесное тело. Я постоянно думаю о твоей прекрасной коже, о твоей красивой, гладкой, нежной груди, о твоем сексуальном, плоском и изящном животе, о твоих милых, стройных, изящных ногах и руках… ну и конечно же, о том, что у тебя между ног, и о том, какая ты красивая, сексуальная, безупречная!”
Усугубляя оскорбление клеветой, Китайский Прощелыга отпустил несколько унизительных замечаний в адрес китайских мужчин: по его словам, они “скучные, скучные, скучные”, приверженные традициям, ограниченные, лишенные воображения и менее привлекательные, чем белые, европеоидные мужчины. Он утверждал, что китаянки, даже девственницы, всегда изумляются размеру его члена – в сравнении с членами, которые они видели у китайцев. Тинтин даже признавалась ему, что ее муж-китаец не способен удовлетворить ее, а вот с ним такой проблемы не возникало. Представления о сексуальном превосходстве мужчин-европеоидов очень распространены в Китае. Во всяком случае, Прощелыга – далеко не единственный, кто об этом упоминает.
Это не значит, что я уверен, будто опыт Китайского Прощелыги легко повторить или что он не лукавил, рассказывая о своих легких и почти бесчисленных победах. Вполне вероятно, что гораздо большее число его бывших студенток отвергли его приставания и что Китай в целом отнюдь не раздолье для охотников до сексуальных приключений, каким его описал этот блогер. И все же за его рассказом явно что-то стоит, что-то говорит о том преимуществе, которым пользуются здесь западные мужчины, соревнуясь за внимание девушек, – что-то такое, что уловили Чжан и его сторонники, жалуясь, по выражению Чжана, на китайское идолопоклонство перед всем иностранным. “В этом проблема, – написал мне в электронном письме Чжан. – Это не единичный случай. В Китае полно таких Китайских Прощелыг”. Действительно, примерно в то же самое время, когда поднялась шумиха из-за Прощелыги, вспыхнуло еще несколько громких и жарких споров вокруг других иностранцев, похвалявшихся своими сексуальными победами в Китае. Один из скандалов разгорелся вокруг сорокадвухлетнего американца Роберта Куглера, разместившего в сети фотографии семидесяти девяти китаянок, с которыми, по его утверждению, он переспал. Скандал разгорелся до того, что, по словам профессора Чжана, в ту пору слова “Роберт Куглер” стали самым частым предметом поиска в Google и Yahoo! в Китае.
В 2007 году, будучи в Пекине, я взял интервью у нескольких образованных китаянок, у которых в ту пору (или в прошлом) имелись сексуальные партнеры-иностранцы, и эти умные, искушенные, уверенные в себе женщины охотно соглашались с тем, что иностранцы обладают определенной “аурой” и что обычно китаянки (включая их самих) считают их привлекательными. “Почему же?” – спросил я.
“Дело в размере!” – моментально последовал веселый ответ одной из этих женщин – миловидной хозяйки магазина одежды. Ответ был шуткой лишь наполовину, потому что здесь по-прежнему живуче представление о том, будто у западных мужчин член больше, чем у азиатов. На самом деле женщина, давшая такой ответ, как раз собиралась расстаться с любовником-иностранцем и уехать из Пекина к любовнику-китайцу, жившему в провинции, так что, очевидно, размер в данном случае не имел значения.
Тема любовных отношений между китаянками и иностранцами довольно сложна. В Шанхае циничные женщины пренебрежительно называют иностранцев “билетами на самолет”. В Таиланде в ходу другое прозвище – “ходячий банкомат”. Пускай западные мужчины тешат себя мыслью, будто наделены особой притягательностью в глазах азиатских женщин, – истина состоит в том, что они всего лишь олицетворяют надежду на материальную выгоду или, быть может, мечту о богатой жизни где-нибудь в другой стране. Но дело, конечно же, не только в этом, особенно теперь, когда экономический бум в Китае породил целый класс богатых китайцев, способных не хуже западных мужчин обеспечивать своих жен или подруг машинами, сумочками от Гуччи, заграничными поездками и красиво обставленными квартирами. Одно из первых наблюдений, которые я сделал за все годы, прожитые в Азии (то самое, что спустя десятилетия привело к идее написать данную книгу), относится к началу 1970-х, когда я, в ту пору студент-лингвист, оказался на Тайване. Тогда я сделал открытие: молодому американцу немного “ботанского”, книжного склада (вроде меня), такому юноше, которому трудно было найти себе пару на выпускном школьном балу, часто удавалось завладеть вниманием очень симпатичных тайваньских девушек.
Как это объяснить? Несомненно, отчасти дело было в будоражащей возможности перебраться в Америку, где жизнь, особенно ту пору (и гораздо меньше в наши дни, поскольку Тайвань уже превратился в демократическое государство с уровнем жизни, вполне сопоставимым с американским), казалась свободной и богатой по сравнению с жизнью на Тайване. Но при этом было совершенно ясно, что любой молодой человек с Запада удостаивался незаслуженного признания просто в силу того, что он иностранец. Связь с ним сама по себе служила романтическим украшением, дополнительной ценностью в глазах очень многих городских образованных тайваньских девушек.
В 2007 году в Пекине я спрашивал у своих успешных в профессиональном плане собеседниц, нет ли у них ощущения, что иностранцы открыто пользуются тем явным преимуществом, которое я когда-то впервые отметил на Тайване, и они отвечали решительным “да”. Преимущество западных мужчин, по их мнению, основывалось на четко определяемых чертах. Причина крылась не столько в деньгах, сколько в утонченном стиле жизни, с которым ассоциировался Запад, а также в ощущении, что связь с западным мужчиной – в каком-то смысле более заманчивое, волнующее, смелое светское приключение, чем куда более обыденные отношения с китайцем. И эти чувства часто находят отклик у одиноких (а иногда и женатых) западных мужчин, для которых подруга-китаянка (или даже не одна) – важная составляющая полной приключений жизни на Западе.
“Западные мужчины обучены джентльменскому обращению”, – сказала мне одна женщина, профессионально занимающаяся бизнесом. Она употребила китайское слово цзюньцзы – понятие, при помощи которого Конфуций описывал хорошо воспитанного, культурного человека. “Азиаты растеряли это, – заявила она и напомнила о влиянии долгих лет правления Мао, когда хорошие манеры считались буржуазными и реакционными, а крестьянско-пролетарская грубость, напротив, высоко ценилась. – А западные мужчины – нет. Азиаты грубы и невоспитанны. Они пьют. Они играют на деньги. Когда у них появляются лишние деньги, они заводят себе женушек [то есть наложниц]”.
“Даже когда у китайца появляются деньги, он использует их для того, чтобы подчинить себе жену, – сказала эта женщина. – Он покупает ей вещи из-за престижности торговой марки, “Гуччи” или “Фенди”, а не потому, что думает сделать жене приятное. Например, вчера я виделась со своими друзьями-богачами, и муж сказал жене: “Эта сумочка тебе не идет, я куплю тебе сумочку от такого-то, потому что она одна на весь Китай”. Он даже не поинтересовался ее мнением, а просто велел носить, потому что ему хотелось продемонстрировать всем: раз его жена носит такую сумочку, значит, у него много денег”.
Другие китаянки, у которых я брал интервью на эту тему, в том числе два редактора новостных интернет-служб и хозяйка магазина одежды, высказали схожие мысли относительно того, что западные мужчины обладают лучшими манерами и привычками. (Тут следует вспомнить, что образчики западных мужчин, с которыми у китаянок больше шансов познакомиться, чаще всего являются представителями высших слоев общества, получившими хорошее воспитание и образование). Среди других причин, в силу которых китайских женщин привлекают западные мужчины, называлась чистоплотность: иностранцы чаще принимают душ и лучше чистят зубы. Этот довод, как и многие другие, имеет прямое отношение к сравнительно низкому уровню жизни в Китае вплоть до недавнего времени.
“Китайцы не понимают, что мужчинам следует соблюдать чистоту, – сказала одна женщина-редактор. – У нас в университете невозможно было войти в мужское общежитие, потому что…” Она мимикой изобразила отвращение.
“Десять лет назад соблюдать гигиену было не так-то просто, – отметила ее коллега-редактор. – В общежитии нашего университета на сто студентов была только одна ванная комната. Большинству приходилось пользоваться общественными уборными и душевыми, было омерзительно… Вот причина, о которой так легко забыть, – почему мне сразу понравились западные мужчины, – продолжила она. – Выбор сделала не я, выбор сделал мой нос”.
Они приводили и другие причины. Западные мужчины меньше скованы вековыми традициями, чем китайцы, и, скорее всего, будут поддерживать стремление своих подруг или жен сделать карьеру. Западным мужчинам чужд почти узаконенный обычай обзаводиться второй, третьей или даже четвертой женой, что, как говорили некоторые женщины, повсеместно распространено среди китайцев. Другие упоминали об отсутствии перспектив, которое ждет азиатку после разрыва брачных отношений с азиатом, – некоторые женщины говорили, что в Китае разведенной женщине гораздо труднее снова выйти замуж, чем на Западе. При этом азиатским женщинам остается недоступным утешение того рода, которое азиатские мужчины без особого труда находят с второй или третьей женой. Женщина, которая в беседе со мной говорила о более “джентльменском” обхождении западных мужчин, добавила, что такие мужчины, особенно высоко образованные и культурные, вряд ли способны на домашнее насилие.
“Даже если у западного мужчины случается очень серьезная ссора с женой, он не станет бить ее, – сказала она. – А в Китае это обычное дело, когда муж бьет жену. Это считается нормой. И бесполезно звать полицию, потому что полицейские ничего не станут делать. Они просто скажут, что это внутрисемейное дело – мол, разбирайтесь сами”.
К сожалению, правда заключается в том, что многие западные мужчины тоже бьют своих жен (впрочем, подобное поведение, по крайней мере в Европе и в Соединенных Штатах, по-видимому, вызывает куда большее общественное порицание, чем в Китае и некоторых других азиатских странах). Кроме того, ни один из ответов, которые дали мне опрошенные китаянки на вопрос, почему западный мужчина представляется такой желанной добычей в глазах китаянок, не давал исчерпывающего объяснения: в чем заключался сексуальный успех Китайского Прощелыги? Ведь его цель явно сводилась к тому, чтобы завязать как можно больше поверхностных любовных отношений, а вовсе не к созданию глубокой и прочной связи с одной женщиной. Пример Китайского Прощелыги лишь выступал симптомом повальной страсти китайцев к материальным приобретениям: некоторые китаянки смотрели на западных мужчин точно так же, как на виллы в фальшивом итальянском стиле, выраставшие по всей стране как грибы, – то есть как на некие внешние атрибуты богатой жизни. Ведь богатая жизнь во многом ассоциировалась в сознании нуворишей с изобилием подделок под все европейское. “Китайские нувориши предпочитают все, так сказать, новое”, – писала “Нью-Йорк таймс”. “Показаться на людях с западным мужчиной – это шикарно, – сказала мне еще одна женщина, имеющая университетское образование и сотрудничавшая с иностранным информационным агентством. – А в том, чтобы показаться на людях с китайцем, нет ничего особенного”.
Разумеется, подавляющее большинство китайцев и китаянок влюбляются друг в друга и заключают браки, и многие западные мужчины – наверное, даже большинство, – живущие в Китае со своими западными женами, не гоняются за китаянками. Мало кто из китайцев вообще общается с иностранцами. Кроме того, многие китайские мужчины обладают прекрасными манерами, высоким интеллектом, придерживаются просвещенных взглядов на отношение к женщинам, не заводят наложниц, являются любящими отцами и совершенно не склонны к рукоприкладству в семье.
Вопрос о предполагаемой привлекательности западных мужчин волнует умы лишь представителей тонкой урбанизированной прослойки китайского общества – тех, кто сидит с чашкой капучино где-нибудь в кофейне “Старбакс” в Пекине или посещает модные ночные клубы на улице Хуайхай в Шанхае, но именно об этой прослойке и писал в своем блоге Прощелыга. Можно назвать этих людей буржуазно-богемным сегментом китайской городской жизни, позаимствовав выражение у колумниста Дэвида Брукса, который изобрел это понятие для характеристики определенной – сосредоточенной на поиске удовольствий и нарочито “стильной” – культуры в американском обществе. Этим китаянкам Запад в целом представляется волнующей альтернативой традиционным установкам китайского общества, полным ограничений и запретов. Это все равно что носить джинсы и слушать новейшую поп-музыку – современно, модно и чуть-чуть рискованно. Опираясь на богатый опыт постельных разговоров, Китайский Прощелыга писал в блоге, что для китаянок связь с иностранцами – это “шанс получить личную свободу совершенно другого уровня”, а это, добавлял блогер, открывает этим самым иностранцам “путь к эксплуатации”. В самом деле, западные мужчины в Китае – это богема на чужбине, которой хочется хорошо проводить время, забыв о социальных и моральных ограничениях, сковывающих их на родине, и наслаждаться выгодами от незаслуженной “добавленной стоимости”, которую придает им сам статус западных иностранцев. Они привлекают женщин не только потому, что в среднем лучше, чем китайцы, соблюдают правила гигиены, но и потому, что, когда отношения становятся серьезными, они лучше, чем среднестатистические китайцы, воспринимают идею равенства, охотнее помогают справляться с домашними делами и реже бывают убеждены в том, что обязанности женщины состоят в обслуживании свекрови.
В этом смысле отчасти понятно, почему Китайский Прощелыга успешно находил китаянок, которые шли навстречу его желаниям, и почему этот успех вызвал такое мощное чувство оскорбленного национального достоинства. Китай – страна, которая одновременно преклоняется перед всем иностранным и возмущается своим преклонением. Это страна, наделенная, так сказать, коллективной “тонкой кожей”, особенно когда речь идет о чем-то для нее унизительном в отношениях с Западом. Гневный отклик на откровения Китайского Прощелыги сродни той же неразумной (в глазах многих иностранцев) ярости, какую вызывает поддержка Западом далай-ламы, которого в Китае считают не миролюбивым мудрецом, жертвой китайского запугивания, а коварным политиком, стремящимся расколоть родину, отчасти используя враждебный настрой Запада к Китаю.
В 2008 году один известный китайский художник привлек к себе внимание, когда выступил с протестом против неслыханно популярного мультфильма “Кунг-фу панда”, который показывали в кинотеатрах по всему Китаю, – на тех основаниях, что в нем “эксплуатируется” китайский национальный символ. Протест не получил широкой поддержки в Китае. Но он продемонстрировал ту же чувствительность, которая проявилась в случае с Китайским Прощелыгой, – боязнь эксплуатации, проистекающую из относительной отсталости Китая на протяжении последних веков и из пережитого подчинения захватчикам-колонизаторам. Все это давно осталось позади, но боязнь по-прежнему оказывает мощное влияние на отношение китайцев к самим себе и к остальному миру. Налет “престижа”, пристающий к иностранцам в Азии, является пережитком эпохи господства европейцев над большинством азиатских обществ.
Общая тенденция последних лет такова, что в подавляющем большинстве любовных отношений между китайцами и иностранцами пару образуют иностранец-мужчина и китаянка, а не иностранка и китайский мужчина. Обычно этот факт объясняют так: мужчины-азиаты считают западных женщин более агрессивными, чем азиаток; в Азии живет и работает гораздо больше мужчин, чем женщин с Запада; западные женщины опасаются, что мужья-азиаты будут требовать от них подчинения и послушания. Похоже, наблюдается сложное взаимодействие целого ряда образов и представлений, но почти все составные части этой смешанной картины порождены опытом соприкосновения с колониальной державой, которая всегда заботилась об увеличении своего престижа и величия, а потому сознательно превозносила мужественность европейцев и преуменьшала мужественность азиатов.
Китай, в отличие от Индии или Индокитая, никогда не подвергался полной колонизации, но иностранные армии одержали над ним ряд постыдно легких побед, начиная с Опиумной войны 1839–1842 годов, когда Китай заставили открыть свою территорию для торговцев и миссионеров, которых он раньше не желал впускать. С середины XIX века во всех крупных городах – в Кантоне (сейчас Гуанчжоу), Шанхае, Циндао и других – основывались иностранные концессии, и города по сути становились наряду с Гонконгом и Макао мини-колониями вдоль побережья Китая. И, как сказала мне одна из редакторов новостной интернет-службы, даже сегодня, спустя столько лет, сексуальное покорение китаянок иностранцами ощущается солью на историческую рану. “Последние два века мы жили очень бедно, и западные мужчины выступают символом большой силы и богатства, – пояснила она. – Европейцы уже отобрали у нас многое – богатство и силу – и, отнимая у нас самых красивых девушек, отнимают гордость”.
Примерно в то же время, когда произошел инцидент с Китайским Прощелыгой, на некоторых веб-сайтах и форумах Китая анонимно публиковались сделанные скрытой камерой фотоснимки китаянок с бойфрендами-иностранцами, которые или шли по какой-нибудь шанхайской улице, или сидели в кафе, или обнимались на Бунде – широкой эспланаде, протянувшейся между бывшим европейским кварталом с банками и гостиницами и рекой Хуанпу. Была даже подборка, показывавшая китаянок, актрис кино и телевидения, с бойфрендами-иностранцами. До чего же это странно! Вы только вообразите, что кто-нибудь в Нью-Йорке стал бы фотографировать белых женщин с китайцами или другими иностранцами, а потом анонимно и без чьего-либо разрешения размещать снимки в интернете для всеобщего обозрения! Очень трудно себе это представить, и не потому, что мы на Западе придерживаемся более тактичных взглядов на подобные вещи, а просто потому, что никого данная тема не волнует. А вот в более болезненной, психоисторической атмосфере Китая охота за подобными кадрами и их публикация почему-то кажутся естественными.
Вывешенные в Сети фотографии отнюдь не были призваны рассказать о том, как это мило, романтично и трогательно, что мужчины из Европы и Америки приехали в Китай и встретили настоящую любовь среди очаровательных местных женщин. Смысл этих публикаций был иным: подобные сцены – иностранец вместе с модной ухоженной китаянкой, чаще всего стильно причесанной и в облегающих джинсах, – это постыдное зрелище и что китаянка, отдающаяся иностранцу, унижает страну, которая еще помнит (отчасти потому, что помнить об этом побуждает правительство) прошлые унижения, войны и вторжения, неравные договоры, прибрежные мини-колонии, финансовые дотации, нищету и подчиненное положение Китая. Я тоже становлюсь иностранцем, когда путешествую по Китаю, к тому же я женат на китаянке, и ни я, ни моя жена ни разу не замечали каких-либо признаков враждебности во время многочисленных поездок по стране, которые мы совершали вместе. Но жена признавалась, что некоторые ее китайские друзья-мужчины выражали вежливое недоумение по поводу ее решения выйти замуж за чужеземца. “Они говорят: “Ричард очень славный, но мы-то чем плохи?” – слышал я от нее.
Но шанхайские фотографии, множество комментариев к ним на веб-сайтах и яростный отклик на признания Китайского Прощелыги в 2006 году свидетельствуют о том, что тема сексуальных отношений между иностранцами и китаянками взрывоопасна, и отнюдь не все материалы, выставленные на всеобщее обозрение, являются снимками, сделанными исподтишка. Помимо блога уже знакомого нам преподавателя английского есть множество других блогов иностранцев, где изображается мир, который и символизирует картинка, где западный мужчина позирует в обнимку с китаянкой. Эти блоги тоже вызывают шквал гневных комментариев со стороны китайских мужчин вроде реакции на размещенную в Сети фотографию одного человека в Шэньчжэне – особой экономической зоне в провинции Гуандун вблизи Гонконга. На снимке был западный мужчина лет тридцати, с татуировкой, видневшейся на талии, с бритой головой, с пряжкой ремня, в которой прочитывалось слово PIMP (“сутенер”), обнимавший симпатичную смеющуюся молодую китаянку в джинсах и черной майке. Это была одна из пары десятков фотографий, выложенных на веб-сайте какой-то “Шэньчжэньской партии” – онлайнового дневника, описывавшего жизнь иностранцев в Шэньчжэне. На фотографиях фигурировали западные мужчины с подругами-китаянками, причем многие пары были засняты в игривых позах, будто на студенческих вечеринках. Ни на одной из фотографий не было ни одной западной женщины, и их отсутствие красноречиво говорило о том, что эта мужская компания, охочая до развлечений, осознанно ищет общества именно местных женщин. Эти парни в Китае совсем не для того, чтобы ходить на чинные свидания с белой девушкой, живущей по соседству.
“Меня это бесит!” – написал один блогер-китаец. И он на самом деле злился: “Неужели китайские девушки так бесстыдно держатся с иностранцами?”
“Может быть, дело в деньгах? – продолжал он, пытаясь понять, отчего китайские женщины так охотно вешаются на шею этим безнравственным иностранцам, гоняющимся за удовольствиями. – Но ведь у “белых воротничков” из числа китайцев тоже нет недостатка в деньгах. К тому же девушки, гуляющие с иностранцами, делают это бескорыстно. Может быть, дело в сексе? Но разве китайские мужчины не способны заниматься любовью ночь напролет и даже с двумя девушками сразу? Не знаю, что и сказать. Все это позор и для китайцев, и для китаянок”.
Профессор Чжан написал научное исследование о подобных болезненных реакциях – “Подробный доклад о психологических проблемах китайцев”. В нем он вскрывал тревожный феномен китайского “самоуничижения”. “Причина – недоразвитость Китая, появившаяся в последние сто лет, – писал он. – Нам приходится признать, что в современном мире главенствуют белые люди и что вклад в современную культуру, сделанный Китаем, практически ничтожен. К тому же известно, что ведущую роль в управлении современным обществом играют мужчины, а потому несостоятельность мужчин связана с отсталостью их страны. Хотя в последние годы экономика Китая переживает бум, китайцы по-прежнему проявляют недостаточную уверенность в себе при общении с иностранцами, поэтому они слишком склонны критиковать самих себя и хвалить других”.
Существует и беллетристическая иллюстрация мысли Чжана. Тинтин, подруга Китайского Прощелыги, стала реальным воплощением главного персонажа романа Чжоу Вэй Хуэй “Девушка из Шанхая” – романа, имевшего большой успех за рубежом и даже ставшего сюжетной основой для фильма. Роман рассказывает о девушке, у которой два бойфренда: китаец-импотент и иностранец – сама мужественность. Эти частные сексуальные отношения как будто символизируют историческую слабость Китая на протяжении пары последних веков, особенно во взаимодействии с западными колониальными державами и Японией. Неудивительно, что книга, отлично продававшаяся в Европе и Америке, была запрещена в Китае, хотя благодаря интернету и мощному потоку информации из-за границы многие китайцы о ней все-таки знают.
Таков фон, на котором появился Китайский Прощелыга и случился спровоцированный им всплеск гнева в растревоженной душе Китая на заре XXI века – в пору, когда Китай выступает одновременно в двух ролях – и силача на пляже, и мальчишки-слабака, которому швыряют песок в лицо. И хотя в своем блоге Китайский Прощелыга, казалось бы, сообщал в основном о том, какое чудесное место Шанхай для неженатого западного мужчины, он в то же время прекрасно сознавал, каким оскорбительным может оказаться описание его жизни для местных мужчин. Ведь невозможно рассказывать о том, что ты удовлетворяешь женщину, которую не способны удовлетворить другие мужчины, без определенной заносчивости, а в случае Китайского Прощелыги такая заносчивость несла еще и расово-культурную нагрузку, неизбежно чреватую оскорблением.
На самом деле Китайский Прощелыга и иными способами выражал свое презрение к Китаю. Он высказывал сомнения в том, стоит ли считать частью Китая Синьцзян – населенную в основном мусульманами автономную провинцию на дальнем западе. И задавался подобными же вопросами насчет Тайваня, что в глазах Китая является очень рискованным поступком, потому Китай не терпит несогласия с государственной точкой зрения, гласящей, что Тайвань – сепаратистская провинция, которой будет объявлена война с целью присоединения, если та когда-либо осмелится официально провозгласить независимость. Вдобавок Китайский Прощелыга обнаружил, что Китай – это страна, выказывающая мазохистскую любовь к страданиям, превращающая в фетиш историю своей эксплуатации чужеземцами, похваляющаяся своей болью и даже превращающая ее в орудие для того, чтобы пробудить в других странах чувство вины и заставить подчиняться ее желаниям. Китайцы, как бы говорил этот учитель английского, проводят основанную на обвинениях и оскорблениях внешнюю политику, посредством избирательной памяти изображая себя вечными жертвами, особенно западного и японского империализма.
Но что искупает грехи Китая, если следовать рассказу учителя, так это предоставляемые им удивительные возможности для секса, потому что там на западного мужчину смотрят как на некое высшее существо с большим членом и в его распоряжении оказывается безграничное количество соблазнительных женщин, желающих с ним переспать. Как написал Китайский Прощелыга, “мы приезжаем сюда не потому, что мы испорченны, скорее, та испорченность, которая прячется в глубине души большинства мужчин, здесь находит благодатную почву для процветания”. Значит, сам Китайский Прощелыга сознавал, что его жизнь в Китае, как он сказал, “порочна”. Но что за беда! Для мужчин-иностранцев вроде него Китай – это “рай”.
Китай очень изменился и в то же время остался прежним. Когда я в начале 1980-х годов жил в Китае, он совсем не был раем – ни сексуальным, ни каким-либо другим. Шансы завязать романтические отношения с какой-нибудь китаянкой были настолько малы, что я примирился с этим и даже не искал подобных знакомств, хотя тогда был молод и неженат и охотно завел бы роман-другой. И дело не в том, что иностранцу невозможно было добиться близких отношений с кем-либо из китаянок, если бы те сами распоряжались своей жизнью. Дело в том, что почти любые личные и безнадзорные контакты между иностранцами и китайцами находились под неофициальным запретом, особенно если поводом для этих контактов были любовь или секс.
Я находился в Китае в качестве корреспондента журнала “Тайм” с конца 1979-го до конца 1982-го – в период, последовавший за установлением полноценных дипломатических отношений между США и Китаем, когда Китай оказался на пороге революционного раскрытия навстречу внешнему миру и поворота к капитализму. Но в начале 1980-х годов, спустя пять лет после смерти великого вождя Мао Цзэдуна, Китай все еще оставался бедной, унылой и угнетенной страной. Большой Брат следил за всеми. Время от времени я все-таки встречался с китаянками, пусть и в обстановке самых жестких ограничений. Среди моих знакомых была девушка, жившая в Пекине тайно, потому что у нее не было специального разрешения, которое требовалось (да и сейчас требуется) любому китайцу для проживания в столице страны. Ей помогал отец, важный партийный чиновник, в остальном не одобрявший ее поведения. Мы с ней очень дружили. Она много рассказывала о себе, в том числе о своей сексуальной жизни (точнее, об отсутствии всякого сексуального опыта – даже в тридцатилетнем возрасте). Но у нас с ней не было романтических отношений, а если бы они и завязались, то нас ждали бы большие сложности: нам просто негде было бы уединиться.
Была и другая женщина, с которой я недолгое время поддерживал общение. Мы познакомились в 1980 году, в ту пару месяцев, когда китайское правительство разрешило устраивать субботние вечерние танцы в подвальном ночном клубе, находившемся не где-нибудь, а в Институте национальных меньшинств на Чанъаньцзе, главной улице Пекина. Иностранцы входили туда, предъявляя паспорта. Китайцам приходилось предъявлять листки с пекинской “пропиской”, и охранники на входе записывали их имена и “координаты” – место работы или учебное заведение. Как правило, лишь дети людей, занимавших важные должности в коммунистической партии или в китайском правительстве, осмеливались проходить эту процедуру проверки на входе, которая, должно быть, пугала простую молодежь, не имевшую полезных политических связей.
У моей подруги, которую я называл Малышка Ван,[2] имелись необходимые связи, и однажды вечером она появилась в Институте меньшинств в компании друзей. Все они были детьми правительственных или партийных чиновников и хорошо разбирались в устройстве китайской жизни. Конечно, их нельзя было назвать золотой молодежью, но они пользовались известными преимуществами, которые примерно поколением позже обернулись такими привилегиями, как, например, право строить недвижимость у пекинского Третьего дорожного кольца, где они же гоняли на своих джипах “Порш Кайен”, стоивших примерно по 160 тысяч долларов каждый. Но в ту пору, когда я познакомился с этими молодыми людьми, они лишь немногим отличались от большинства: они были более уверенными, более сведущими и чуть-чуть более циничными. Они научили меня опознавать по номерному знаку автомобили Бюро общественной безопасности, рассказали, как найти закрытые магазины, где китайцам, имеющим особый доступ, продают иностранные фильмы и книги. Они читали выпускавшийся для чиновников и недоступный простому народу “Новостной справочник” – обзор событий за рубежом.
После того субботнего вечера, когда я встретил Малышку Ван в компании друзей, я увидел ее там же в следующую субботу. По-видимому, она пришла одна. В тот второй раз я подвез ее домой (в Китае личные автомобили позволялось иметь только иностранцам), а потом виделся с ней еще несколько раз. Обычно мы посещали все ту же субботнюю дискотеку (пока власти не закрыли ее), а однажды сходили в ресторан. Малышка Ван была миловидной даже в синем “костюме Мао” стандартного пошива, с заплетенными в косички волосами, она мне нравилась, хотя, если бы она ответила мне взаимностью (а я так и не узнал, нравился я ей или нет), то опять-таки нам все равно некуда было бы пойти. Танцы в Институте меньшинств проходили под магнитофонную музыку, при мягком цветном освещении, это была самая интимная обстановка в настроенном против всякой интимности Китае тех лет. Однажды на танцплощадке я поцеловал Малышку Ван в щеку.
– Лучше этого не делать, – сказала она мне.
– Извини, – ответил я, – просто не удержался.
– Ничего страшного, – сказала Малышка Ван, – но за нами следят.
– Следят? Кто же?
– Посмотри вон на тех мужчин у стены, – ответила она чуть-чуть раздраженно. Ну неужели можно быть таким наивным дурачком, чтобы не понимать, что на подобном мероприятии за нами будут приглядывать блюстители общественной морали из Бюро безопасности? Я обвел взглядом зал и заметил нескольких мужчин в темно-синих “костюмах Мао”, которые стояли у стены на краю танцплощадки и вели наблюдение.
Таков был тогдашний Китай, хотя уже появлялись некоторые признаки послабления – тоталитарный надзор за частной жизнью и настроениями людей, который осуществлялся в разгар правления Мао, несколько ослаб. Первую поездку в Китай я совершил в 1972 году, будучи еще студентом, и в те времена китайцы не просто регулировали сексуальную активность. Подобно сталинскому биологу Трофиму Лысенко, якобы доказавшему, что черты, приобретенные благодаря изменению среды, способны становиться наследственными, китайцы пытались доказать, что на половое влечение можно воздействовать политическим учением. Считалось, что при выборе пары молодые люди будут руководствоваться чистотой его (или ее) политических воззрений.
К моей группе был приставлен гид – дружелюбный и приятный человек, которого мы звали Малышом Хуаном, и однажды во время долгой поездки на поезде мы попытались добиться от него признания, что он мог бы влюбиться в девушку просто потому, что она очень симпатичная, или хотя бы признать, что одни девушки привлекательнее других. Он упорно отрицал это, настаивая, что в будущей спутнице жизни для него важно только ее “мировоззрение”. Я так и не понял, высказывал ли он убеждение, которое искренне разделял благодаря влиянию партийного учения, или просто лгал.
В конце 1970-х, когда я начал работать в Китае, все было не так уж плохо. Людям не нужно было влюбляться друг в друга из-за глубокой преданности будущего партнера к председателю Мао, но отношение к иностранцам по-прежнему оставалось крайне настороженным. Сексуальной жизнью в стране якобы руководил принцип, который китайцы называли социалистической моралью. Это было расплывчатое понятие, практически не регламентированное китайским законом. Однако все прекрасно знали, что распущенные нравы иностранцев представляют для этой морали большую угрозу, и в течение 1980-х и в начале 1990-х китайская пропагандистская машина регулярно предостерегала от “духовной заразы”, которой были чреваты частые контакты с иностранцами. В 1980 или 1981 году к моему знакомому, корреспонденту “Эй-Би-Си”, как-то вечером в гостиничный номер зашла коллега – журналистка из Гонконга. Они просто сидели и разговаривали, а потом вдруг заметили какие-то фигуры, мелькнувшие на крыше, которая была видна из окна номера. Вскоре после этого в дверь постучали. Суровые сотрудники госбезопасности, явно следившие за парой, потребовали у женщины удостоверение личности – к счастью, она не была гражданкой Китайской Народной Республики, – а потом предупредили обоих, что в Китае мужчине и женщине, если только они не муж и жена, не разрешается находиться поздно вечером вдвоем в гостиничном номере.
Еще известен случай с Ли Шуан и Эммануэлем Бельфруа. Ли была художницей и умеренной оппозиционеркой и не являлась членом официального Союза художников. Бельфруа был китаистом и занимал должность культурного атташе и переводчика при французском посольстве в Пекине, а также поддерживал тесную связь с первыми демократически настроенными китайскими активистами. Эта пара жила вместе в доме на огороженной территории для иностранцев, за забором с воротами, круглосуточно охранявшимися китайскими военными, так что Ли вряд ли могла входить и выходить незамеченной. Китайскому правительству и органам безопасности Бельфруа явно не нравился – из-за открытой симпатии к китайским политическим диссидентам. Однажды Эммануэль воспользовался мешком для дипломатической почты, чтобы контрабандой переправить в Гонконг диссидентский текст, который потом, к огромному неудовольствию китайских властей, широко распространила зарубежная пресса. Коммунистическая партия стремилась воспрепятствовать не только сексуальным отношениям между гражданами Китая и иностранцами – по мнению партии, любые отношения с иностранцами пятнали чистый облик Китая. Сам Бельфруа пользовался дипломатической неприкосновенностью, но, живя с китаянкой, он давал властям отличный повод проучить его, наказав его возлюбленную. Однажды, когда Ли Шуан шла к Бельфруа, ее арестовали и на два года посадили в тюрьму за “аморальное” сожительство с иностранцем, хотя потом, когда ее выпустили, благодаря аккуратным дипломатическим ходам со стороны Франции ей позволили уехать из Китая и воссоединиться с Бельфруа в Париже.
В течение примерно тридцати лет после захвата власти в Китае коммунистами всякие интимные и даже отнюдь не интимные отношения между иностранцами и китайцами находились под запретом. Правда, те же годы стали периодом общего сексуального пуританства в Китае, когда любое стремление к сексуальным наслаждениям официально клеймилось как проявление буржуазности. Погоня за эротическими приключениями считалась контрреволюционной, ведь она ставила личное удовольствие выше триумфа пролетариата. В те времена при распределении на работу бюрократический аппарат начисто пренебрегал личными привязанностями людей, направляя супругов в разные, порой находящиеся далеко друг от друга места, так что муж и жена могли проводить вместе всего пару недель в году: долг перед страной был предпочтительнее радостей частной жизни. Ха Цзинь в романе “Ожидание” описывал тысячи правил и предписаний, касавшихся отношений между полами в армии. Например, мужчине и женщине, не состоявшим в браке друг с другом, не разрешалось уходить вместе с военной базы. В китайских городах партийные активисты из вездесущих районных комитетов внимательно следили за передвижениями рядовых граждан, высматривая признаки “безнравственного” поведения вроде добрачного секса или прелюбодеяния, даже если речь не шла об иностранцах.
К концу 1980-х Китай уже привык к тому, что там живет множество иностранцев. Были отменены многие ограничения, касавшиеся связей иностранцев с китаянками. Исчезли угрюмые охранники в зеленых шинелях, грубо преграждавшие путь местным жителям, когда те пытались проникнуть в гостиницы для иностранцев. Я помню близкое к восторгу чувство, когда впервые мне удалось пригласить друга-китайца в лобби своей гостиницы (тогда еще нового отеля “Цзяньго”), чтобы выпить с ним кофе. Это произошло в 1988 году. И все-таки если дело касалось ухаживаний и секса, то на пути любви по-прежнему вставали серьезные помехи. Примерно тогда зарубежная пресса рассказывала о нескольких случаях, когда иностранных бизнесменов штрафовали на крупную сумму, после того как заставали в постели с подругами-китаянками. Ситуация была настолько серьезной, что посольству США пришлось выпустить предупреждение о юридическом риске “связей с гражданами Китая противоположного пола”. Поднялся некоторый шум, когда сотрудник Министерства здравоохранения объявил, что “случайные связи” наряду с гомосексуализмом являются в Китае уголовными преступлениями. Потом последовало опровержение со стороны представителя Министерства юстиции, который заявил, что ни внебрачный секс, ни гомосексуализм не являются противозаконными. Как я уже говорил, в Китае имелись (и имеются) законы против проституции, по определению подразумевающей какую-то плату за услуги, и по-видимому, именно эти законы пускались в ход против бизнесменов, которых штрафовали за секс с китаянками. Хотя по меньшей мере в нескольких случаях иностранцев штрафовали даже за сожительство с их невестами-китаянками, которые никоим образом не являлись проститутками. Но очевидно, что необходимость бороться с “духовной заразой” превращала некоторых китайцев в фанатиков, особенно в ту пору, когда Китай только начал поворачиваться лицом к внешнему миру.
Строгое регламентирование сексуальной жизни и еще более строгий запрет на интимные отношения между китайцами и иностранцами можно было бы объяснить маниакальным стремлением коммунистов контролировать жизнь общества в целом. Однако, учитывая историю Китая, можно понять, что причины были все-таки глубже, и искать их следовало в оскорбленном чувстве национального достоинства, которое выразил профессор Чжан, болезненно отреагировавший на признания Китайского Прощелыги. В том самом ощущении, о котором упомянула одна из женщин, дававших мне интервью: иностранцы всегда эксплуатировали Китай, и недавно открывшаяся им возможность развлекаться с китаянками – это очередной способ эксплуатации. Во время Опиумной войны, оказавшейся первым из унижений, нанесенных иностранцами Китаю (в результате которой, помимо прочего, правители династии Цинь вынуждены были уступить Гонконг Британии), слухи о насилии британских солдат над местными женщинами вызвали в стране вспышку ярости против чужеземцев. Эти слухи привели к стихийному сбору крестьянского ополчения в местности Саньюаньли, неподалеку от Кантона, где китайцы и одержали победу над британцами (что само по себе было редкостью). С тех пор, а особенно при коммунистических правителях Китая, чьими стараниями об этом событии знает каждый школьник, Саньюаньли прославлялось как место славной народной победы.
Но история сексуальных контактов между иностранцами и китаянками восходит к гораздо более ранним временам, чем годы Опиумной войны. В мемуарах британского моряка Уильяма Хикки, жившего в XVIII веке, описывается высадка в бухте Лоб-Лоб, около Кантона, в 1770 году: Хикки и его приятель раздобыли “двух очень смазливых девчонок” у сводника-китайца, который доставил им женщин на лодке. Но к XIX веку уже вовсю разгорелась ненависть к иностранцам, отчасти благодаря усилиям местной пропаганды, которая настойчиво называла чужестранцев безнравственными, испорченными развратниками. Как отмечал историк Фредерик Уэйкмен, в стране господствовали настроения “ксенофобии и сексуальной истерии”.
Движение за реформы, начавшееся в Пекине и в приморских городах Китая в конце XIX века и искавшее способы возрождения затухавших имперских обычаев, сделало проблему взаимоотношения полов предметом национальной заботы – вероятно, впервые за всю долгую историю Китая. Интеллектуалы-реформаторы были убеждены, что традиционные конфуцианские взгляды на секс, в том числе на подчиненное положение женщин и на их обязанность повиноваться мужчинам, относились к факторам, ослаблявшим Китай. Когда в 1898 году реформатор Кан Ювэй обратился к императору с просьбой запретить древний обычай бинтовать ступни ног, он обосновал прошение тем, что этот обычай, как он выразился, ослабляет китайский народ, а потому препятствует возрастанию военной мощи. Некоторые китайские социальные реформаторы усматривали аналогию между неравным положением женщин в Китае и неравным статусом Китая среди остальных народов мира. Иными словами, слабый, униженный Китай метафорически представлялся им в образе женщины, которую принуждает к подчинению более сильный иноземец-мужчина.
Общая идея, получившая хождение среди китайской элиты, заключалась в том, что союзы более сильных и равноправных партнеров будут давать лучшее потомство. Впервые представление о браке как об исключительном и добровольном соглашении между мужчиной и женщиной потеснило более типичную полигамную модель, согласно которой жена обязана была рожать детей, беспрекословно подчиняться свекрови и не роптать, когда муж заводит наложниц. В 1930-е появилась обильная литература на эту тему, в том числе ряд периодических изданий, дававших советы сексуального характера современным супружеским парам: как вести себя в первую брачную ночь или как доставить партнеру большее удовольствие. “Лишь мягкое, вежливое обращение убедит добрую и послушную невесту в том, что ее муж – сердечный, любящий человек, заботящийся о ней, – поучало одно такое руководство, “Секреты спальни”, вышедшее в 1938 году. – Несколько теплых, нежных слов наполнят ее сердце радостью и пробудят в ней желание близости”.
Эти попытки просветительства, конечно, очень современны, однако неясно, в какой степени они действительно влияли на сексуальное поведение, органичной частью которого, как мы скоро увидим, оставался старый добрый конфуцианский, патриархальный обычай держать наложниц. Однако публичное обсуждение темы пола вывело ее на государственный уровень, чего никогда раньше не случалось: речь в данном случае шла и о важной составляющей наблюдавшегося национального упадка, и об обнаруженной возможности национального возрождения. Иными словами, еще до коммунистической революции секс сделался предметом государственного вмешательства и регулирования. В те годы в Китае обретали популярность идеи евгеники. Некоторые реформаторы-радикалы говорили о необходимости убивать “худших” детей ради улучшения “породы” в целом. Серьезную тревогу вызывали венерические заболевания, свирепствовавшие в Китае, и в некоторой степени вину за них возлагали на иностранцев. Эта проблема стала точкой пересечения имперской власти и сексуального национализма.
Действительно, некоторые венерические заболевания, в частности сифилис, получивший поэтичное название “яд сливы” из-за формы первичных язв-шанкров, были занесены в Китай во время первых контактов с европейскими торговцами, так что они были в прямом смысле иностранной заразой. К моменту установления республики в Китае, согласно исследованиям западных врачей, сифилисом болело втрое больше людей, чем в Соединенных Штатах. Как выразился один ученый, это “позволяло взвалить всю вину на некий обобщенный “Запад”. Далее он писал: “Китай колонизовала двойная сила: иностранный капитал и опасная болезнь. Империалисты “надругались” над территориальной целостностью страны, а микробы “атаковали”… мочеполовые пути”.
Разумеется, поведение иностранцев в районах договорных портов, которыми они заправляли, нисколько не способствовало изменению данного образа. В течение почти ста лет терпимость к проституции и бандитизм в Международном поселении и на территории Французской концессии в Шанхае, находившихся под британским и французским контролем соответственно, превратили Шанхай в ведущую мировую столицу продажного секса. Это место, особенно в первой половине XX века, наглядно иллюстрировало представление о том, что на пышном и грешном Востоке возможно все, и доказывало, что такое представление основано на реальности: возможно было пускай и не все, но очень многое. “Шанхай, продажный город” – так называлась книга, написанная Эрнестом Хаузером и вышедшая в 1940 году. Само заглавие намекает, что в Шанхае покупается и продается все, в особенности запретные удовольствия. Этот город славился своими “певичками”, как обычно называли куртизанок. Желтая пресса, особенно самое заметное из таких изданий, газета “Цзинбао” (“Кристалл”), с 1919 года выходившая каждые три дня в течение двух десятилетий, постоянно рассказывала о делах и распрях самых знаменитых городских куртизанок, а заодно сообщала названия борделей, где их можно разыскать, и их телефонные номера. Более низкую ступень занимали многочисленные и менее удачливые “фазанихи” – рядовые уличные проститутки, получившие такое прозвище за крикливые наряды и обыкновение перепархивать с места на место, – всем была известна их назойливая манера приставать к прохожим и низкий социальный статус. Опросы, проводившиеся в 1935 году, позволили установить, что в Шанхае работает приблизительно сто тысяч проституток – примерно тринадцатая часть всего женского населения. В одной только Французской концессии, где в 1920-е, согласно записям, проживало чуть меньше сорока тысяч женщин, проституцией занималась каждая третья. Не все проститутки были китаянками. Среди самых знаменитых шанхайских проституток были и белые женщины – русские, которых толкнули на этот путь трудные жизненные обстоятельства, наступившие после бегства от революции. Низшую ступень занимали девушки, промышлявшие в “цветочных курительных” – опиумных притонах, где за определенную плату можно было получить трубку и в придачу право тискать женщин, которые заманивали клиентов у входа в эти безвкусно-кричащие заведения и распевали распутные песни.
Иностранцы, контролировавшие Шанхай, делали попытки уменьшить размах проституции, и разумеется, множество благотворительных учреждений, в основном христианских, силились помочь женщинам, для которых торговля телом была занятием, спасавшим от нужды и дававшим возможность выжить. И все равно на протяжении десятилетий, пока торговый порт Шанхай контролировали иностранцы, продажный секс процветал там так буйно, как мало где еще в мире.
Несложно понять, отчего в 1949 году, после захвата власти коммунистами, секс вообще стал расцениваться как законная сфера государственного надзора, а секс с иностранцами вызывал непременные ассоциации с унижениями имперской эпохи. Кроме того, раздел Китая на две части впервые (но далеко не в последний раз) положил начало его разделению на две “эротические зоны” – прозападную, или проамериканскую, где в смысле эротической свободы все оставалось возможным, и другую, антиамериканскую, зону полного запрета на эротику. Тайвань, куда в 1949 году бежали китайцы-националисты и правительство которого США вплоть до 1979 года признавали единственным законным правительством Китая, был сексуальным раем для американцев, в том числе для солдат с военных баз, размещавшихся на острове, а в 1960-е и 1970-е – и для тех, кто приезжал из Вьетнама “для отдыха и развлечений”. Китайская Народная Республика, напротив, всячески ограждала себя от иностранцев. Позднее разделился и Вьетнам, причем не только на два враждующих лагеря, примкнувших к противоположным политическим и экономическим системам, но и на две полярные зоны эротической культуры. В Южном Вьетнаме западный мужчина мог переспать за день с тремя разными женщинами, а в Северном о близком общении с женщинами и речи идти не могло.
Тем не менее к началу 1990-х, когда сексуальные отношения в целом освободились от контроля со стороны партии, Китай стал более или менее похож на любую другую страну. Именно в этом смысле, если рассматривать долгий период истории, Китай остался прежним. Когда Мао Цзэдун мирно упокоился под стеклом в своем Мемориальном зале в Пекине, Китай сбросил иго сексуальных репрессий, которое вождь возложил на простых граждан. К 1990-м в эротическом отношении Китай разительно отличался от той страны, которую мне довелось наблюдать в начале 1980-х. Похоже, таков был естественный ход истории коммунизма: вначале он провозглашает равенство полов и свободу половых отношений, затем устанавливает режим сексуальных репрессий, а через некоторое время в страну возвращается стихия разнузданной похоти.
Нельзя сказать, что старый Китай когда-либо полностью переставал существовать для китайцев, облеченных властью и влиянием, он полностью перестал существовать только для иностранцев. Даже в эпоху маоизма, когда подавляющему большинству населения навязывался режим сексуального воздержания, сам Мао в полной мере беззастенчиво наслаждался сексуальными привилегиями, какими издавна пользовались китайские властители. Это известно из мемуаров его личного врача, Ли Чжисуя, который поддерживал с Председателем очень близкие отношения в течение всего периода правления Мао. Пока Мао находился у власти, ему поставляли сексуальных партнерш охранники, которые прекрасно знали, что он предпочитает совсем юных и невинных. “Культурная революция” провозглашала своим публичным лозунгом аскетизм, – писал Ли, – но чем громче партия призывала к аскетизму и моральному поведению, тем больше сам Председатель предавался удовольствиям. Его постоянно обслуживал гарем из юных девушек. Именно тогда, в разгар “культурной революции”, Мао иногда развлекался в постели с тремя, четырьмя, даже пятью женщинами одновременно”. Находясь у себя дома в Чжуннаньхае (жилом комплексе для высших партийных чиновников, расположенном к западу от древнего Запретного города) Мао пользовался услугами стайки хорошеньких девушек, а во время званых вечеров он обычно удалялся сразу с несколькими из них в спальню, находившуюся недалеко от плавательного бассейна. А в Доме народных собраний – огромном правительственном здании для официальных приемов на пекинской площади Тяньаньмэнь – специально для Мао имелась огромная роскошная комната № 118, и, опять-таки по свидетельству его личного врача, “и там, и в других помещениях Дома народных собраний его ублажали некоторые из молодых сотрудниц”.
В 1957 году на Мао с критикой обрушился Пэн Дэхуай – маршал, командовавший китайскими войсками во время войны с Кореей. В 1959 году он стал жертвой “чистки” за совершенное lèse-majesté[3] в отношении Мао. Один из пунктов обвинительного акта Пэна гласил, что Мао ведет себя как император – возводит для себя виллы с бассейнами и держит гарем из трех тысяч наложниц. Возможно, эта цифра и была несколько завышена, но, безусловно, гарем Мао, пускай он даже уступал величиной типичному императорскому гарему, унаследовал главные черты гаремов прежних эпох: между наложницами вспыхивали жестокие ссоры, а фаворитки Мао пользовались особым влиянием и почетом в Чжуннаньхае. В последние годы жизни Мао его речь сделалась настолько неразборчивой, что его уже никто не понимал. И разыгрывались сцены, будто выдернутые из имперского прошлого: партийным вождям приходилось полагаться на уникальные способности чтения по губам Чжан Юфэнь, давней проводницы личного поезда Мао и его любовницы, и слушать, как она передает им наставления Председателя, которые она одна умела расшифровать. Мао придерживался старых даосских взглядов на секс и обычно давал читать своим сексуальным партнершам даосский учебник секса “Тайные уловки простой девушки”. Хотя врач Мао об этом ничего не писал, маловероятно, что в годы правления Мао такая книга могла быть доступна широкой публике. Мао вслед за даосами верил, что мужчина способен достичь долголетия, восполняя свою мужскую энергию ян, постоянно подпитывая организм инь-шуй – вагинальными выделениями юных женщин, желательно девственниц.
Памятуя о почти феодальном характере китайской коммунистической иерархии, закрытой для остального общества и не подотчетной ему, не стоит думать, что один только Мао держал для своих утех личный гарем – гарем, который, кстати, существовал, несмотря на то что Мао был женат на протяжении всего срока своего правления. (Его жена, Цзян Цин, оказалась в составе так называемой Банды Четырех, которая подверглась репрессиям после смерти Мао.) И все же, говоря официальным языком, внебрачный секс находился под строгим запретом в десятилетия коммунистического правления. Но, когда Китай совершил официальный разворот от социализма к капитализму, именно традиция внебрачного секса вернулась на прежнее место, которое занимала веками. К концу 1980-х исчезли районные комитеты, назойливо следившие за частной жизнью. Проституция сделалась обыденным явлением, и законы против нее почти перестали применяться. Сегодня одинокому мужчине, путешествующему по Китаю, достаточно лишь внимательно оглядеть вестибюль гостиницы, и он, скорее всего, заметит ночных тружениц, терпеливо ждущих, когда он сам подойдет к ним (раньше они предлагали свои услуги весьма назойливо, но лучшие отели предпочли положить конец таким приставаниям). Зазывалы, дежурящие на улице у дверей всех крупных гостиниц, распахивают двери такси, на которых уезжают иностранцы, и забрасывают внутрь визитные карточки. Эти карточки, обычно с фотографией томной полуголой красотки и с номером телефона, рекламируют услуги массажисток по вызову. В больших городах есть множество баров и клубов, где можно завязать знакомство, в том числе бары и клубы для геев – явление, абсолютно немыслимое в годы маоизма, когда за гомосексуализм наказывали особенно жестоко.
Однажды я спросил своего китайского научного ассистента, который недавно окончил университет в Пекине, куда ходят молодые люди, чтобы побыть наедине. Ведь очень многие из них не имеют отдельного жилья, потому что живут вместе с родителями или делят комнаты в общежитии с несколькими соседями. “Рядом с университетами всегда есть куча маленьких недорогих гостиниц, – сказал мне ассистент. – Туда и ходят”.
Туда, похоже, и водил Китайский Прощелыга Звезду и Инъин, Вишню, Рину, Тюльпан, Тинтин, Сьюзан и Венди. Когда я жил в Китае, ни одна китаянка не могла бы прийти ни домой, ни в гостиничный номер к иностранцу – у входа ее сразу же остановил бы охранник.
Иными словами, Китай переживал эротическое возрождение, превращаясь в ту страну, какой был прежде, – в страну, где продажный секс не только легкодоступен, но и рекламируется гораздо громче, чем где-нибудь на Западе. Разумеется, проституток можно найти в любой стране, но одна из характерных черт Востока, и особенно Китая, – проституция там гораздо лучше вписана в обычную жизнь, менее постыдна, менее опасна, чем в большинстве западных стран, и не так активно загоняется в подполье. Существуют онлайновые секс-путеводители для западных путешественников, где полно комментариев о легкой доступности сексуальных услуг в Китае – как пишут на одном форуме, такие услуги есть даже при обычных с виду парикмахерских.
К 1990-м в Китае возродились и другие традиции, в особенности традиция держать наложниц: состоятельные и влиятельные люди считают подобающей своему статусу привилегией право иметь хотя бы одну, а часто и несколько любовниц. В старину императоры не только обзаводились нэй-гуном – внутренним дворцом, где на протяжении их жизни обитали наложницы и приставленные к ним стражи-евнухи. Как известно, порой богачи распоряжались, чтобы после их смерти в их гробницах все время танцевали молодые плясуньи – таким образом умерший император и в загробной жизни мог наслаждаться приятным женским обществом.
К счастью, традиция обзаводиться танцовщицами для гробниц в Китае уже не возрождалась, но, безусловно, к 1990-м и к началу нынешнего столетия институт конкубината снова распространился чрезвычайно широко. Этот факт получил и официальную огласку. Согласно одному научному исследованию, обнародованному в 2007 году на веб-сайте издания “Пиплз-дейли”, около 95 % чиновников-коррупционеров в пределах провинции Гуандун содержали любовниц. В другой статье, опубликованной примерно в то же время, сообщалось, что около двух тысяч чиновников в провинции Хэнань в центральном Китае нарушили проводимую Китаем “политику одного ребенка”: у большинства из них имелось по два, по три или даже по четыре ребенка – от второй, третьей и четвертой сяо-най (“женушки”).
Для борьбы с этим явлением, в котором верхушка компартии увидела воскрешение нежелательного социального обычая, появились постановления, определявшие новые формы коррупции, – например, взятками стали считаться подарки, сделанные не чиновнику или кому-то из его родственников, а его любовнице. Эти постановления Государственного совета, высшего административного органа Китая, были призваны служить предостережением для государственных служащих, у которых были любовницы. Те, “чьи проступки окажутся серьезнее, будут понижены в должности или вовсе смещены с нее”, уточнялось в постановлении, а “те, чьи правонарушения носят очень серьезный характер, будут наказаны ссылкой”.
И это снова заставляет нас вспомнить о Китайском Прощелыге, который, наверное, не вполне это сознавая, продемонстрировал возврат Китая к традициям. Главная тема данной книги такова: на протяжении веков Восток, в широком смысле этого понятия охватывающий большую часть земного шара – от Северной и Восточной Африки до Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, – манил западного человека как царство эротической свободы и вседозволенности. Этот Восток охватывал множество различных культур, языков и народов и, разумеется, никогда не представлял собой единой зоны с общей цивилизацией, если не считать того, что его значительные территории были колонизованы (полностью или частично) западными странами, и почти всюду там преобладала иная культура сексуального поведения, нежели на христианском Западе. Отношения между Западом и Востоком были разнообразными и сложными, поскольку покорение новых земель приводило к обмену идеями, богатствами и верованиями, однако постоянным элементом этих отношений оставались сексуальные контакты. Соприкосновение и столкновение Запада с этим Востоком (в широком смысле слова) на протяжении трех с лишним столетий означали взаимодействие двух разных систем эротических обычаев и ценностей, причем выгода от этого взаимодействия, как и от самой колонизации, в основном носила однонаправленный характер: западным людям открывался путь к таким наслаждениям, какие было бы гораздо труднее (или вовсе невозможно) получить у себя на родине.
Это взаимодействие Востока с Западом многое могло рассказать об укладе не только тех обществ, в которых западные люди предавались удовольствиям, но и тех, откуда они явились и где эти же самые удовольствия находились под запретом. С одной стороны, существовала христианская моногамия, где секс наполнялся религиозным значением и порождал определенные запреты, считаясь греховным и в случаях внебрачных связей, и даже в браке, если не был связан с продолжением рода. С другой стороны, существовала восточная культура, где сексуальные отношения строго регламентировались, особенно для женщин, но где с ними не связывались такие понятия, как грех и любовь. Иными словами, мир разделялся на две зоны. На Западе эротика ассоциировалась с виной и подавлялась, на Востоке процветала идея гарема, обладания множеством сексуальных партнерш и царило убеждение (неважно, верное или ошибочное), что для мужчины естественно и даже полезно наслаждаться ласками сразу многих женщин и что должен существовать особый “класс” женщин для удовлетворения желаний, на Западе считавшихся незаконными и нездоровыми, а потому подлежащих подавлению.
Таким образом, Восток являл западным людям совершенно иной подход к важной стороне жизни, иной взгляд на стремление к наслаждениям, и для многих мужчин это открывало путь к будоражащим, лишенным налета греховности возможностям, противиться которым было невозможно. Конечно же, были и те, у кого слухи о восточных сексуальных обычаях вызывали отвращение, и они начинали видеть в Востоке логово беззакония, нравственное чудовище, новый Содом, отчаянно нуждавшийся в моральных и религиозных наставлениях. Восток, как выразился писатель Иэн Бурума, одинаково привлекал и миссионеров, и распутников, но одни желали искоренить языческую вседозволенность, а другие стремились воспользоваться ею, хотя последних, похоже, было гораздо больше, чем первых. Я говорю здесь о почти исключительно мужском западном явлении по той простой причине, что на Восток отправлялись в основном только западные мужчины, и та сексуальная культура, которую они там находили, создавалась мужчинами для удовольствия мужчин. Тысячи западных людей – управляющих Ост-Индской компанией в британской Индии, французов, владевших каучуковыми плантациями в Камбодже, американских пехотинцев, получавших отпуск после выполнения боевых заданий во Вьетнаме, – обнаруживали, что сами на манер султанов и императоров прежних эпох могут обзавестись гаремами, пусть и на чужой земле.
Именно этим и занимался Китайский Прощелыга, живя в соответствии со своими желаниями в китайском раю (как он сам выразился), и именно поэтому его хвастливые рассказы об одержанных победах вызвали такой гнев. Парадокс заключается в том, что, хотя Китай постепенно возвращал себе прежний статус очага восточной культуры, он в то же время успел перенять и усвоить многие западные сексуальные воззрения. И потому, несмотря на то что страна снова предлагала западным людям те удовольствия, в которых отказывала им на протяжении тридцати с лишним лет, происходящее вызывало у нее чувство стыда и унижения.
Подобно западным мужчинам, жившим семьдесят пять или сто лет назад в Индии, Шанхае и Танганьике (нынешней Танзании), Китайский Прощелыга обзавелся гаремом в Шанхае, и многим китайцам это не понравилось (хотя многие китайцы и сами заводили гаремы). Можно не сомневаться, что в настоящем гареме, какие были, скажем, у хана Хубилая (Кубла-хана) или императора Цяньлуна из великой династии Цин, у его обитательниц было гораздо меньше свободы действий и передвижений, чем у бывших студенток Китайского Прощелыги. Кроме того, в настоящем гареме женщины являлись исключительной эротической собственностью одного мужчины, который мог спать с ними, – если только они не надоедали ему, как часто случалось, и он не дарил их кому-нибудь из министров, полководцев или даже чужеземных правителей, с которыми ему хотелось поддерживать дружеские отношения.
И все же, если закрыть глаза на эти “технические” различия, статус иностранца и преподавателя позволял Китайскому Прощелыге ощущать себя маленьким императором, у которого имеется собственный ней-гун, пускай даже этим ней-гуном чаще всего служили шанхайские гостиничные номера с почасовой оплатой. Больше всего поражало то, что в первые годы нынешнего века один нескромный иностранец недвусмысленно заявил: даже ничем не примечательный учитель английского, представитель народа, который некогда презирали здесь за кирпичный цвет кожи и дурной телесный запах и которому в годы маоизма отказывали в постельных утехах с местными женщинами, теперь тоже мог обладать гаремом.
Глава 2
Весь мир как бордель для белых
19 мая 1887 года лондонская “Пэлл-Мэлл газетт”, редактора которой всерьез тревожил происходящий, по его мнению, упадок нравственности среди британцев, напечатала статью анонимного автора, сообщившего соотечественникам о великом позоре Британской империи. Имперскими делами, напоминал автор, занималось пятьсот тысяч солдат и полицейских, чиновников и клерков в колониях, главным образом мужчины, причем по большей части неженатые. И огромное количество этих людей прискорбным образом опустились “до уровня язычников”, вступив в “безнравственные связи с туземками”. Таким образом, продолжал аноним, британское чиновничество стало рассматривать “английскую мораль как исключительно местное явление, которое следует оставлять дома наряду с маринадами “Кросс энд Блекуэлл” или горчицей “Кинс”, поскольку за пределами родины можно найти соответствующую замену, гораздо более подходящую для местных условий”.
Если оставить в стороне взгляды автора на сравнительные достоинства “безнравственных язычников” и приверженцев “английской морали”, то приводимые им факты, касавшиеся связей англичан с “туземками” в пределах империи, где никогда не заходит солнце, достаточно точны. Новости распространялись и тогда, и среди них были известия о том, что управляющие и солдаты, откомандированные в различные британские колонии, сожительствовали с огромным количеством колонизованных женщин. Это не означает, что сексуальные отношения между британцами и жительницами Индии, Цейлона (сегодняшней Шри-Ланки), Танганьики и Малайи были обычным делом, как представляет себе анонимный автор письма в газету. В конце XIX и начале XX века чаще, чем раньше, британские солдаты и чиновники, отправляясь на службу в далекие колонии, старались брать с собой жен, и сексуальные связи с туземными женщинами, девушками, мужчинами и мальчиками завязывались реже, хотя, конечно, такие связи никогда не прекращались. Статья в “Пэлл-Мэлл газетт” появилась в рамках так называемого движения за чистоту, зародившегося в конце XIX века. Газета ревностно подхватила затеянную кампанию, пропитанную викторианским духом, и принялась с переменным успехом внедрять строгость в сексуальные нравы британцев за рубежом. На протяжении всей истории колониализма в Британии находились люди – быть может, начиная с философа Эдмунда Берка, – которые приходили в ужас от последствий колониального владычества в сфере сексуальных отношений и которые к тому же подозревали, что полнейшее попрание “английской морали” и является сутью самого колониализма. Однако “движение за чистоту” имело иную направленность: оно являлось абсолютно проимперским. “Пэлл-Мэлл газетт” высказывала сугубо расистскую обеспокоенность, которую разделяли представители довольно странной и пестрой коалиции феминисток, церковников, квакеров и отдельных личностей вроде Роберта Баден-Пауэлла (создателя скаутского движения) и Горацио Герберта Китченера (главнокомандующего британскими войсками в Британской Индии). Все они тревожились по поводу того, что обычаи типа временного сожительства с туземками и покровительства местным публичным домам размывают необходимую грань между британцами и колонизированными народами, а это, в свою очередь, умаляет славу и престиж империи.
На протяжении большей части истории империи, во всяком случае начиная с учреждения в XVII веке Ост-Индской компании, многих (если не большинство) солдат и чиновников, отправлявшихся в Африку и Азию для выполнения заданий британской Короны и управления делами Ост-Индской компании, нисколько не тревожили подобные соображения. Они действительно оставляли на родине ту сексуальную этику, в рамках которой были воспитаны, и ради собственного удовольствия и удобства, для избавления от одиночества и утоления желаний приспосабливались к местным условиям. Скорее всего, они скучали по маринадам “Кросс энд Блекуэлл” гораздо больше, чем по эротическим запретам, царившим на родине. Редьярд Киплинг, писавший, пускай не прямолинейно, о чувственных удовольствиях ночного Лахора (в нынешнем Пакистане), где он в молодости провел несколько лет газетным репортером, наверное, имел в виду вообще “бремя белого человека”.[4] А Рональд Хайам, один из ведущих исследователей британского колониализма из Кембриджского университета, написал, что одной из сторон колонизации было “превращение всего мира в бордель для белых”.
Не последнюю роль играло и то, что для британцев сексуальные похождения в Индии (как для европейцев вообще в остальной Азии) являлись частью великих колониальных приключений, частью общего триумфального ликования от ощущения своих возможностей. На Востоке такие возможности казались гораздо шире, чем дома, где воспитывались дети, где господствовала нравственность, а жизнь в целом сковывалась досадными, пускай и благородными, ограничениями. Восток же стал местом, где намного легче было пренебречь этими ограничениями, где можно получить временную передышку от, выражаясь словами из “Пэлл-Мэлл газетт”, требований “британской морали”, и в то же время Восток уже глубоко въелся в систему западных ценностей и ожиданий. Киплинг, изобретший понятие “бремя белого человека”, сам сделался своего рода символической фигурой. Его рассказы и стихи насквозь пропитаны индийской романтикой, в его сочинениях Индия предстает краем, где одинокий белый человек вполне может сделаться богом в глазах суеверных туземцев. Так произошло с Дэниелом Древоттом в рассказе “Человек, который хотел быть королем”, не устававшим напоминать всякому, кто желал его слушать, что Кафиристан, где происходили его приключения, – это “горная страна, и женщины в тех краях отличаются особенной красотой”. Достаточно прочитать стихотворение Киплинга “Мандалай”:
Возле пагоды старинной, в Бирме, дальней стороне,
Смотрит на море девчонка и скучает обо мне.
Голос бронзы колокольной кличет в пальмах то и знай:
“Ждем британского солдата, ждем солдата в Мандалай!”[5] —
чтобы понять, какой манящей притягательной силой обладал Восток в глазах десятков тысяч жаждавших приключений европейцев, которым тоже хотелось услышать (подобный “раскатам грома”) звон храмового колокольчика на рассвете и увидеть ждущую девушку с кожей орехового цвета. А еще можно вспомнить “Александрийский квартет” Лоренса Даррелла с его описаниями роскошного, томного египетского зноя, который писатель противопоставлял холодной, безрадостной серости страны, полной самоограничений, – родной Англии.
В значительной степени эксплуатация туземных женщин колониальными солдатами, торговцами и чиновниками являлась всего лишь воплощением в жизнь двух неизменных законов, определяющих человеческие отношения. Первый закон: потребность в сексе очень велика и способна быть главенствующей. Второй закон: наслаждение сексуальными привилегиями часто становится наградой для богатых и знатных, а также делается целью приключенческих поисков. В случае Британской империи повсеместная доступность туземных женщин явилась простым следствием богатства и военного превосходства британцев. Кроме того, британцы установили связь между империей и мужественностью, или, по-другому, между колонией и женственностью. Это была та осуществленная в постколониальном мире связь, о которой напоминал Китайский Прощелыга: он беззастенчиво отождествлял Запад с мужским началом, а Восток, включая более слабосильных, по его мнению, мужчин, – с женским. Подобно тому как страна-колонизатор превосходила колонизированные страны военной мощью, богатством и могуществом, западный искатель сексуальных приключений в Азии рисовался мужчиной, которому любая разумная туземная женщина охотно поклянется в верности и преданности. Представление о том, что Восток предлагал западному мужчине эротическую свободу, немыслимую на родине, обретало множество художественных воплощений на Западе, начиная с “Персидских писем” Монтескье и заканчивая бродвейским мюзиклом “Юг Тихого океана”. Пожалуй, самым знаменитым и символичным произведением, напрямую затрагивавшим тему превосходства западного человека, стала история японской гейши Чио-Чио-сан и американского морского офицера Пинкертона из оперы Джакомо Пуччини “Мадам Баттерфляй”.
Сюжет оперы хорошо известен. В конце XIX века Пинкертон, приписанный к порту Нагасаки, договаривается с местным посредником о женитьбе на Чио-Чио-сан, бедной пятнадцатилетней японке. Пинкертон намерен срывать цветы удовольствия, оставаясь в Нагасаки, а когда придет пора, вернуться на родину. Так он и поступает. Однако перед возвращением в Америку он обнадеживает Чио-Чио-сан, которая бросила свою семью, чтобы выйти за него замуж, и поверила, что, сделав это, сама стала американкой, – он дает ей обещание вернуться спустя год. Чио-Чио-сан терпеливо ждет его в течение трех лет, живя в “бумажном домике” Пинкертона, откуда открывается вид на залив Нагасаки, и не слушает ничьих уговоров забыть его, даже презрительно отвергает ухаживания нового поклонника – богатого и знатного принца Ямадори. Когда наконец Пинкертон все-таки возвращается в Нагасаки, его сопровождает новая жена – американка. Он узнает, что во время его отсутствия Чио-Чио-сан родила ему сына, и сообщает ей, что он и его “настоящая” жена хотят забрать ребенка. Убитая горем Чио-Чио-сан перерезает себе горло, а сына, сжимающего в руке американский флаг, оставляет Пинкертону и его жене.
К этой печальной, горькой и по-своему сложной истории мы еще вернемся. Пока же мы обратились к ней просто как к символу преимущественно неравноправных эротических отношений между цивилизациями – драм, многократно разыгрывавшихся в самых различных костюмах и декорациях на протяжении сотен лет. На Восток ехали зарабатывать деньги и удовлетворять имперские амбиции. Вдобавок внебрачные сексуальные удовольствия были там легкодоступными, недорогими и разрешенными, что контрастировало с обстановкой, господствовавшей на родине, где сексуальные удовольствия либо сопрягались с ответственностью, либо, если речь шла о продажных услугах, считались запретными и осуждались как греховные с точки зрения и закона, и нравственности.
Люди с Запада отправлялись в Азию главным образом для личного обогащения или для укрепления славы своей родины. Еще они ездили туда для того, чтобы обращать язычников в христианство. И все же одним из рядовых и важных побудительных мотивов было обыкновенное любопытство. Запад страстно желал узнать Восток, тогда как Восток почти не испытывал стремления узнавать Запад. Антропология, археология, сравнительное языкознание и прочие научные дисциплины отражали западные, а отнюдь не восточные предпочтения. Китайцы, индийцы и малайцы не выказывали никакого желания, скажем, обнаружить истоки Дуная, тогда как для англичан XIX столетия поиски истоков Нила сделались настоящим наваждением, целью фантастических экспедиций и причиной великого соперничества, сопоставимого с соперничеством из-за того, кто первым откроет Южный полюс или полетит на Луну. Как мы еще увидим, исследование Нила и исследование восточной сексуальности неразрывно соединились в судьбе замечательной личности – англичанина Ричарда Фрэнсиса Бёртона.
Сексуальные преимущества западного человека на Востоке являлись одной из сторон западной динамичности, европейского пытливого духа, если сравнивать его с относительной пассивностью азиатов в подобных вещах. Этому можно найти параллель и в области секса – еще одной мощной (и часто замалчиваемой) силы притяжения, которая манила западных мужчин на Восток. Например, в Европе на протяжении веков постоянным предметом наваждения являлся гарем султана Османской империи. Это наваждение породило целую библиотеку книг и ученых трактатов, в основном на английском и французском языках. На страницах сочинений многочисленные путешественники похвалялись тем, что им якобы удалось проникнуть в запретный мир гарема.
Эти сочинения носили в основном умозрительный характер. Трудно поверить, что кто-то из авторов, писавших об османском гареме, действительно мог познакомиться с ним так близко, как сам султан. В самом деле, никто из них, за вычетом пары исключений, даже не видел гарема. Однако пристальный взгляд наблюдательного Запада устремился на Восток еще до того, как западные люди начали массово селиться там и получили возможность знакомиться с Востоком в повседневной жизни. А ведь превращение в объект чужого любопытства, как правило, сопряжено с элементом эротики. Сама собой напрашивается аналогия: Восток был женщиной, за фигурой и телодвижениями которой веками пристально наблюдал Запад. Затем, с расцветом колониализма и участившимися поездками западных людей на Восток, на смену умозрениям пришел опыт. Уже в начале XVI века португальские моряки сожительствовали с туземными женщинами в Гоа, в Малакке, на Суматре и в Японии. Британцы искали плотских утех в Индии с XVII века до XX, тем же самым занимались французы в Индокитае и Северной Африке с 1870-х до 1930-х годов. После Второй мировой войны сотни тысяч американцев “унаследовали” не только внешнюю имперскую оболочку, оставшуюся после британского и французского владычества, но и нечто вроде сексуальной империи, а затем сами наделили ее еще более приземленными, вульгарными, продажными чертами, чем когда-либо ранее. Целые кварталы в Токио, Сеуле, Сайгоне и Бангкоке превратились в сексуальные торговые центры, “тематические парки”, где единственными клиентами стали молодые (и не очень молодые) мужчины, а единственной разновидностью товара или приманки – молодые, иногда чересчур молодые, азиатские девушки (и конечно же, юноши и мальчики).
На протяжении этих веков секс определял более обширную, не такую сокровенную область совместной истории Запада и Востока. Он отражал материальное превосходство Запада. Он становился возможным благодаря завоеваниям Запада, которые влекли за собой личную власть и привилегии. Но нельзя забывать и об исконно восточной составляющей, а именно о чуждой всякого викторианства эротической культуре, которая охотно шла навстречу западным желаниям. Если западный мужчина становился на Востоке сексуальным владыкой, это происходило оттого, что он быстро усваивал восточную эротическую культуру, которая всегда относилась к половым потребностям человека более откровенно и менее брезгливо, чем западная христианская, ставившая выше всего верность единственному партнеру на протяжении всей жизни и связывавшая с грехом понятие секса для наслаждения. Это довольно сложная сторона дела, потому что в большинстве стран Востока на секс смотрели почти по-викториански, а именно как на стихию, которую необходимо обуздывать строгими моральными правилами и родительскими ограничениями. В самом деле, на Востоке никогда не относились к сексу с таким же легкомыслием, как, скажем, в Швеции или в Кембридже, штат Массачусетс, в конце XX века. В далеких от Запада частях земного шара не было маринадов “Кросс энд Блекуэлл”, однако почти повсюду там существовала гаремная культура, разительно отличавшаяся от сексуальной культуры христианского мира. На Востоке считалось, что некоторые женщины, особенно записные красавицы, воспитанные, утонченные и очаровательные, должны занимать определенное место в жизни – доставлять плотские утехи мужчинам. Другой посылкой гаремной культуры было представление о том, что могущественные и состоятельные мужчины вправе пользоваться ласками таких женщин вне брака. Существование гаремной культуры, конечно, не являлось главным побудительным мотивом, заставлявшим западных мужчин претерпевать опасности и лишения, какими часто сопровождалась их служба в Азии на благо родины. Их непосредственной и главной целью оставалось обретение богатства и власти, а также обращение язычников в христианскую веру. Тем не менее сексуальные удовольствия составляли непременную, но обычно обходимую молчанием часть общей истории Востока и Запада.
Среди первых западных авторов, очарованных восточным гаремом, был британский дипломат и писатель Пол Райкот, чье сочинение “Нынешнее состояние Османской империи” впервые вышло в 1668 году. Именно Райкот уместил в одно предложение идеальные воззрения обоих полушарий на любовь и сексуальное наслаждение. “Западный рыцарь, – писал он, – изнуряет себя сражениями, созерцанием и покаянием, дабы стяжать любовь одной Прекрасной Дамы; здесь же [в Турции] целое воинство Дев устремляет все свои помыслы к единственной жизненной цели – дабы великий Господин кивком пригласил их к себе на ложе”.
Кажется немного странным, что Райкот в 1668 году выбрал в качестве образцов западной модели любви рыцаря и его даму, ведь его собственная эпоха уже была на изрядном расстоянии от эпохи феодализма, когда (по крайней мере в идеале) в Европе безраздельно царили понятия доблести, чести, верности и целомудрия. И все-таки, хотя европейские аристократы, современники Райкота, едва ли следовали в повседневной жизни рыцарскому кодексу, рыцарство по-прежнему оставалось для многих примером для подражания. Католическая церковь веками восхваляла союз любви и религиозного благочестия, провозглашая брак одним из священных таинств, одновременно объявляя греховными – даже в пределах освященного церковью супружества – плотские радости для удовольствия, а не для продолжения рода. Аналогией для совершенной любви между мужчиной и женщиной служило бракосочетание между Христом и церковью, то есть по определению бестелесная любовь, платоновский идеал, в большей степени духовное единение, нежели физическое удовольствие. Правда, многие восставали против этого. Даже в эпоху Средневековья бок о бок с официальным культом верности и целомудрия соседствовал культ разврата и обольщения.
Начиная со Средних веков в Европе сосуществовали оба типа отношений к полу. Святой и распутник заняли одну и ту же культурную территорию, исповедуя взгляд на любовь как на таинство, познать которое в полной мере можно лишь как духовную сущность, отгороженную от секса, и параллельно разделяя противоположное мнение: что любовь достижима лишь в случае сопротивления церкви, отказа от ее проповеди аскетизма. Но, как писал историк Йохан Хёйзинга, оба подхода – и одухотворенный идеал, черпавший вдохновение в любви Христовой, и его мятежная противоположность, творившая кумир из наслаждения, – каждый на свой лад превращали любовь в краеугольный камень специфической европейской идиллии. “Для идеала любви, прекрасного вымысла о верности, жертвенности не было места в трезвых материальных соображениях”, – говорит Хёйзинга.[6] Трезвые соображения касались неизбежных жестокостей жизни – непостоянства человеческой натуры, похоти, вероятной скуки и разочарования, человеческого себялюбия и эгоизма и неизбежности физического угасания. Таким образом, и куртуазный рыцарский роман, и непристойная песенка на свой лад представляли собой “влечение к прекрасной жизни, потребность видеть жизнь более прекрасной”. Оба обнаруживают непреодолимое желание найти за любовью или сексом нечто трансцендентное, или, по выражению Хёйзинги, сублимированное.
История западной сексуальности в этом отношении довольно сложна, потому что любая попытка присвоить ей единственный, постоянный знак приводит к неудаче. И в Средние века, и в эпоху Возрождения европейское сознание пронизывала религия, а католическая церковь (как позднее и протестантская) изо всех сил пыталась отделить любовь от физических потребностей и навязать людям моногамию как единственную законную и нравственную форму брака. Этому противостояло явление, которое в более поздние века назовут куртуазной любовью. Она-то и была главным содержанием песен, слагавшихся в XII веке трубадурами: героем в них всегда выступал вернейший рыцарь, устремлявший свои помыслы и чувства отнюдь не к жене (ибо браки редко заключались по любви), а к некоей другой женщине – к Даме В Башне, и чем неосуществимее была эта запретная любовь, тем выше был его душевный накал. В этом смысле великий средневековый эпос пронизан духом супружеской неверности – сам сюжет рыцарских романов движется этой неверностью. Страстная любовь между сэром Ланселотом и Гвиневрой, женой короля Артура, приводит к гибели Камелота. В эпической поэме “Тристан и Изольда” король Марк поручает своему племяннику Тристану сопровождать нареченную короля, ирландскую принцессу Изольду, в путешествии по Ирландскому морю в Корнуолл, где должна состояться свадьба. Но благодаря случайности – оба по ошибке выпивают по пути любовный напиток – Тристан и Изольда без памяти влюбляются друг в друга, хотя прекрасно понимают, что нельзя нарушать обетов, принесенных королю, – Тристан поклялся повиноваться ему, а Изольда – стать его женой. Куртуазный любовный эпос обычно рассказывал о неверности в высших сословиях, о трагических “треугольниках”, где величайшая любовь способна вспыхивать лишь за пределами привычных общественных и церковных союзов. Разумеется, супружеские измены, неизменно остававшиеся скорее роскошью высших сословий, нежели слабостью низших, происходили всегда. Но неверность в Средние века и в эпоху Возрождения отличало то, что, подобно любви, освященной моногамным браком, она стала чем-то вроде столь же священного и моногамного прелюбодеяния. Это было молчаливое, никогда открыто не высказываемое убеждение, будто в браке не может быть истинной страсти, потому что страсть, чтобы ей вечно жить и в теле, и в душе, не должна обретать физического завершения или находить удовлетворение лишь на кратчайшее время. “Стихийный пыл увенчанной любви, не встречающей на своем пути никаких помех, обычно длится недолго, – писал философ-экзистенциалист Дени де Ружмон. – Это вспышка, обреченная угаснуть, не пережив ярчайшего мига своего осуществления”.
Итак, секс играл неоднозначную роль в той внебрачной разновидности моногамии, какой выступала куртуазная любовь. Тристан и Изольда сполна насладились своей страстью. По-видимому, они успели это сделать еще тогда, когда ехали на свадьбу Изольды, и повторили в лесу, после бегства со двора короля Марка, хотя это остается неясным из-за рассказа о мече, который лежал между ними всю ночь. С другой стороны, великий летописец средневековой любви Андрей Капеллан полагал, что чистая, духовная и вечная любовь рыцаря к даме, не являющейся его женой, должна оставаться неосуществленной. Рыцарский кодекс чести, писал он, позволяет “целовать и обнимать возлюбленную и скромно касаться ее обнаженного тела, избегая полного слияния, ибо сие не позволяется взыскующим чистой любви”, тогда как менее похвальная “смешанная любовь”, которая “длится лишь краткое время”, обретает свершение в “заключительном Венерином действе”.
Но если на Западе любовь воспринималась как сложное и противоречивое явление, то такой взгляд на нее коренным образом отличался от понимания любви на Востоке, где наибольшее значение придавалось как раз ее окончательному удовлетворению, и те, кто обладал необходимым богатством и властью, держали гарем, позволявший осуществлять это естественное стремление. Разумеется, Восток многолик. Существовал мусульманский Восток, где исповедовались близкие к западным взгляды на сексуальную мораль, а еще имелись индуистская, буддийская, конфуцианская, синтоистская и анимистическая ипостаси Востока и так далее. И восточные, и западные общества ищут способы сбросить оковы, которыми религия и общепринятая мораль сдерживают удовлетворение физического желания. Все они усматривают серьезное бедствие в необузданном физическом желании. Но едва ли можно обнаружить на Востоке обычные для Запада дискуссии о том, какова природа любви – физическая или духовная, нравственная или греховная – и в чем можно обрести блаженство – в соблюдении церковных ограничений или в их попрании. Мучительное раздвоение было свойственно только христианской культуре с ее верой в святость продолжения рода и первородный грех. Поэтому бунт против аскетизма на Западе порождал запретные любовные связи, антиклерикальное кощунство или прелюбодейное, зато строго регламентированное и одухотворенное преклонение перед идеальной женщиной. На Востоке бунт против подавления желаний привел к возникновению гаремов, где обитали женщины, отобранные исключительно для удовлетворения мужского желания – тем самым остальные женщины, в том числе чужие жены, оберегались от посягательств. Это была патриархальная система, осуществлявшая полный контроль над женской сексуальностью, неважно, шла речь о шлюхах или о девственницах, и польза от такой системы для женщин в высшей степени сомнительна. Однако восточный подход к управлению мужским физическим желанием в целом был гораздо реалистичнее, чем западный, и не пребывал в плену сентиментальных иллюзий по поводу биологических сил или мужской натуры. Разумеется, на Востоке никогда не смешивали секс с духовностью, потому что христианские понятия о любви и сексе с их требованиями пожизненной, освященной браком привязанности к единственной женщине никогда не получали там распространения. Не существовало там и рыцарского идеала, согласно которому любовь рыцаря к недосягаемой даме служит для него поводом выказать доблесть. Любовь и секс на Востоке являлись сугубо мужскими прерогативами, и мужчины предавались им без зазрения совести, не создавая вокруг них ни суеты, ни культа, как это делали христиане.
В этом смысле замечание Райкота точно: на Западе идеальная женщина являлась предметом добродетельного и духовного поклонения, и чем недосягаемее она была, тем идеальнее, на Востоке же идеальной женщиной представлялась изящная красавица, отобранная для гарема, и ее призвание заключалось не в сохранении чистоты и девственности, а в служении мужским желаниям и в продолжении рода.
Когда западные мужчины появились в Азии, они начали хозяйничать не только в правительственных зданиях, но и в спальнях. С точки зрения модной ныне политической морали это выглядит не слишком хорошо, так как демонстрирует несправедливость колониального режима, колоссальные привилегии мужчин по сравнению с женщинами, женское бесправие и мужское господство. Но давайте воздержимся от каких-либо оценок – во всяком случае пока. Давайте попытаемся увидеть в эротической истории Запада и Востока часть великого человеческого спектакля, в котором женщины, девушки и мальчики далеко не всегда играют роли пассивных, беспомощных созданий, против воли уносимых течением рекой собственного опыта. Это весьма плодотворная тема с двойным, а то и тройным дном, где есть место страсти и даже любви. А еще не следует обходить вниманием тему освобождения: освобождения от крайнего патриархального консерватизма на Востоке и от крайнего сексуального невежества, сопровождаемого угнетением, на Западе. Если оставить в стороне нравственность (по крайней мере на предварительном этапе) и сосредоточиться на том, что происходило в действительности, а не на наших чувствах по поводу происходившего, то можно отметить одну особенность этой истории: Азия прослыла на Западе краем обширных эротических возможностей задолго до того, как западные мужчины начали знакомство с ней в качестве солдат, чиновников и правителей.
В 70 году н. э., после взятия Иерусалима римским полководцем Титом, император Веспасиан велел выпустить особые монеты, прославлявшие эту с трудом давшуюся победу. На монетах было отчеканено изображение римского воина, мужественного и мускулистого, попирающего ногой шлем и вонзившего в землю копье. Воин стоял с одной стороны от пальмы, а с другой стороны была изображена сидящая женщина, склонившая голову в знак скорби и покорности.
Женщина олицетворяла и побежденный народ, и саму покоренную и разграбленную землю Иудеи. В этой фигуре историки долгое время видели символ трагедии еврейского народа, пострадавшего от римлян, разрушивших помимо прочего Второй Храм, которому уже никогда не суждено было возродиться из руин. Но можно усмотреть в этой Веспасиановой монете и другой знак. Да, это скорбящая Иудея, но Иудея изображена в виде женщины, а над ней возвышается чванливый, быть может, похотливый римский солдат, и его поза явно намекает на грозящее женщине насилие.
Задолго до основания Ост-Индской компании, за много веков до того, как англичане оставили на родине свои маринады и сексуальные обычаи, европейцы уже бросали на Азию чувственные взгляды. Можно сказать, что начиная с Антония и Клеопатры тема сексуального покорения Востока Западом постоянно владела западным воображением и к тому же была частью западного опыта. Действительно, эта тема восходит еще к истории Менелая Спартанского и Елены Троянской, повествующей об обманутом древнегреческом царе и его жене, которая была так красива, что ахейцы снарядили тысячу кораблей, чтобы отвоевать ее. Из “Илиады” Гомера следует, что восточная женщина рассматривалась как ценная добыча для греческого завоевателя, хотя, конечно, в VIII веке до н. э. – в эпоху, когда создавался гомеровский эпос, – было еще слишком рано говорить о Востоке и Западе в том смысле, который эти понятия приобрели позднее. Главная тема “Илиады” – гнев Ахилла, вызванный несправедливым исходом спора двух могущественных владык Запада из-за обладания восточной рабыней Брисеидой, которая досталась Ахиллу в награду за разграбление Лирнесса (города в Малой Азии). Брисеида стала, пожалуй, первым наглядным примером сексуальной притягательности Азии в глазах западных завоевателей. Когда Агамемнон, главнокомандующий ахейским войском, забирает рабыню себе, Ахилл, мстя за эту утрату, прекращает участвовать в сражениях с троянцами, что приводит к гибели многих ахейцев и отдаляет победу.

Римская монета (ок. 70 г. н. э.) изображает Тита, завоевателя Иерусалима, в виде солдата, стоящего над фигурой женщины в слезах, олицетворяющей Иудею. American Numismatic Society
“Илиаду” от поразительной монеты Веспасиана отделяет почти целое тысячелетие, и за столь долгий исторический промежуток уже начали складываться понятные нам представления о Западе и Востоке. Этому во многом способствовали такие события, как завоевание римлянами Египта и позже – захват Иудеи Титом. Если уже в поэме Гомера можно уловить легкий намек на будущую роль Азии как предмета эротических грез мужчин Запада, то на монете Веспасиана эта тема заявлена с тревожной откровенностью. Там Азия уже представлена в виде женской сущности, слабой и плачущей, тогда как фигура завоевателя олицетворяет грозную мужественность Запада.
На протяжении долгой истории взаимоотношений Востока и Запада, начиная с римлян в Иудее и заканчивая американскими солдатами во Вьетнаме, сексуальные удовольствия являлись далеко не случайным, неожиданным “побочным продуктом” завоевания, имперской эксплуатации и экспансии или погони за богатством, славой, властью и приключениями. В двух случаях такого рода удовольствия ожидались с самого начала. В истории Антония и Клеопатры смуглая азиатская царица предстает роковой соблазнительницей, сиреной на берегу, загадочной иноземкой, в которую западный путешественник влюбляется до безумия, добровольно делаясь ее рабом. Эпизод с похищением Брисеиды и Веспасианова монета свидетельствуют о древних обычаях грабежа и насилия после победы, а так как за редкими исключениями победы в основном одерживал Запад, то, как правило, насилию подвергался Восток. Поэтому в более позднюю эпоху, когда западные мужчины начали массово приезжать на Ближний Восток, в Северную Африку, Индию, Восточную и Юго-Восточную Азию, они предвкушали эротическое “пиршество”, разительно отличавшееся от того, что доступно им дома.
Возникновению пронизанного эротикой образа Востока издавна способствовали легенды и литература. Затем, начиная с раннего Возрождения, этот образ становился ярче благодаря рассказам путешественников, посетивших владения восточных правителей. Восток, даже когда его описывали, не заостряя внимание на эротических усладах, рисовался краем чудес (а порой и ужасов), загадочной территорией вроде океанов на средневековых картах, где обитают волшебные существа – чудовища, змеи и полулюди-полузвери. На этом Востоке водились крокодилы, лившие слезы при пожирании людей, бил источник, чьи воды даровали вечное исцеление от всех болезней, и сироты поедали собственных умерших родителей, чтобы те обрели последнее упокоение не где-нибудь, а в утробах родных детей. Такой Восток казался другой планетой и играл примерно ту роль, которую впоследствии начнут играть другие планеты в научно-фантастических романах. Ведь появляются же сегодня “рассказы путешественников” о космических пришельцах, похищающих землян и проводящих над ними сексуальные эксперименты. Нечто подобное можно найти и в старинных рассказах о путешествиях на волшебный Восток, где речь идет, разумеется, не о сексуальных экспериментах, а о дворцах наслаждений, многоженстве, сексуальном рабстве и распутных женщинах – словом, обо всем, что занимало тогдашнее коллективное сознание.
Самым знаменитым было, конечно, путешествие Марко Поло, чей рассказ изобиловал настолько сказочными описаниями двора великого китайского правителя и всей его страны, что многие современники не сомневались: он просто выдумал все это. Но вслед за Марко Поло явились и другие путешественники, чьи слова подтверждали репутацию волшебного, полного любовной неги Востока. Благодаря этим рассказам Запад окончательно подпал под чары восточного эроса.
В XIII веке монах Гильом (Вильгельм) Рубрук, миссионер-францисканец фламандского происхождения, родившийся около 1215 года в северной Франции, по приказу французского короля Людовика IX предпринял путешествие из Константинополя в монгольскую столицу Каракорум. Ранее Гильом сопровождал Людовика в крестовом походе 1248 года, и его репутация доброго христианина и порядочного человека была непогрешима, как и цель, которой задались они с Людовиком, – обратить монголов на путь истинной веры. Добиться поставленной цели монаху не удалось, зато его знакомство с монголами длилось целых два года.
Гильом оказался внимательным и дотошным наблюдателем. Он первым установил, что Каспийское море со всех сторон окружено сушей. Его описания монгольской юрты, женских украшений, свадебных и погребальных обычаев монголов и поклонения “ложным богам” отличаются точностью деталей и полной достоверностью. А потому, надо полагать, правдиво и его описание полигамной сексуальной культуры монголов, совершенно диковинной для тогдашних европейцев. “И если у господина очень много жен, – писал Рубрук о татарском всаднике, – то та, с которой он спит ночью, сидит рядом с ним днем, а всем другим в тот день надлежит приходить к тому дому, и там в тот день происходит собрание, приносимые же подарки складываются в сокровищницы этой госпожи”.[7] А еще он рассказал о явлении, которое в последующие века не давало покоя многим европейцам, – о рабынях, державшихся специально для обслуживания сексуальных прихотей господина: “Человекоубийство они карают смертным приговором, так же как соитие не со своею женщиной. Под не своей женщиной я разумею или не его жену, или не его служанку. Ибо своей рабыней можно пользоваться как угодно”.
Следует отметить, что монголы отнюдь не являлись каким-нибудь маленьким неизвестным племенем, служившим загадочным предметом любопытства. Это был народ грозных всадников, который в первой трети XIII века опустошил своими набегами половину Восточной Европы, народ, славившийся такой доблестью, что от одного его имени трепетали короли и плакали маленькие дети. “В поясе они в общем тонки, за исключением некоторых, и притом немногих, росту почти все невысокого… – писал Джованни дель Плано Карпини, ездивший к монгольскому двору, также по распоряжению чрезвычайно благочестивого Людовика IX, в 1246 году, за семь лет до Гильома. – По сравнению с другими людьми они очень вспыльчивы и раздражительного нрава. И также они гораздо более лживы, чем другие люди, и в них не обретается никакой почти правды; вначале, правда, они льстивы, а под конец жалят, как скорпион. Они коварны и обманщики и, если могут, обходят всех хитростью. Это грязные люди, когда они принимают пищу и питье и в других делах своих. Все зло, какое они хотят сделать другим людям, они удивительным образом скрывают, чтобы те не могли позаботиться о себе или найти средство против их хитростей… Их пищу составляет все, что можно разжевать, именно они едят собак, волков, лисиц и лошадей, а в случае нужды вкушают и человеческое мясо… Все же желающие сражаться с ними должны иметь следующее оружие: хорошие и крепкие луки, баллисты, которых они очень боятся, достаточное количество стрел, палицу (dolabrum) из хорошего железа или секиру с длинной ручкой (острия стрел для лука или баллисты должны, как у татар, когда они горячие, закаляться в воде, смешанной с солью, чтобы они имели силу пронзить их оружие), также мечи и копья с крючком, чтобы иметь возможность стаскивать их с седла, так как они весьма легко падают с него, ножики и двойные латы, так как стрелы их нелегко пронзают их, шлем и другое оружие для защиты тела и коня от оружия и стрел их… И так как, за исключением Христианства, нет ни одной страны в мире, которой бы они не владели, то поэтому они приготовляются к бою против нас…”[8]
Европейцы и не мечтали о завоевании и колонизации монголов, они лишь желали, чтобы те не добрались до них самих, а некоторые вроде короля Людовика надеялись вопреки очевидному обратить их в христианство. В сочинениях путешественников, которые побывали при дворе хана Хубилая, нет ни намека на то, что Запад кажется более мужественным по сравнению с будто бы покорным и женственным Востоком. Да и турки-османы, которые позднее сделались предметом острого сексуального любопытства, никогда не порождали таких ассоциаций, как Иудея, изображенная на древнеримской монете в образе плачущей женщины. Это редкие исключения из правила, отклонения от привычного стереотипа, сложившегося за долгую историю взаимоотношений Востока и Запада, в ходе которой разгромленный, колонизованный или по меньшей мере послушный Восток предоставлял западным мужчинам безграничную сексуальную свободу. И все-таки даже в ранних донесениях об устройстве ханского двора и в более поздних отчетах о гаремной жизни, прятавшейся за стенами султанского дворца Топкапы в Стамбуле, настойчиво звучала эротическая тема, так что с именем Востока связывались представления о странной, возможно, безнравственной, но чрезвычайно манящей чувственности. Начиная с позднего Средневековья сексуальные обычаи Востока описывали как нечто сказочное вроде диковинных животных или жутковатых погребальных обрядов, которые, по слухам, существовали в тех краях. Французский моряк Франсуа Пирар, который в начале XVII века провел пять лет в плену на Мальдивах, выучил местный язык и впоследствии написал трехтомный отчет о своих странствиях по Востоку, вышедший в Париже в 1611 году, не преминул поделиться наблюдениями за тамошними женщинами. “По правде сказать, во всей Индии женщины от природы чрезвычайно склонны к всякого рода низменному распутству, – писал он, высказывая распространенное мнение жителей Запада о том, что из-за более жаркого климата Южной Азии и сами южноазиатские женщины должны отличаться гораздо большей любовной пылкостью, нежели европейские женщины. – Но жительницы Мальдив настолько подвержены этому пороку, что он служит им единственным занятием и предметом для разговоров и они открыто похваляются друг перед другом, словно какой-нибудь добродетелью, своими любовниками или поклонниками, которых осыпают всеми знаками внимания и любви, каких только может пожелать мужчина от женщины”.
Самым важным из фантастических рассказов о Востоке, которые пользовались широким читательским спросом в конце XIV века, было сочинение “Приключения сэра Джона Мандевиля”, считавшееся надежным свидетельством очевидца. Сам Мандевиль почти наверняка был вымышленным лицом – возможно (хотя нельзя утверждать этого с уверенностью), его выдумал или врач Жан де Бургонь, или, по другой версии, историк Жан д’Утремёз. А может быть, это и в самом деле был человек, носивший имя Мандевиля, из Блэк-Нотли, Эссекс. Как бы то ни было, он писал на англо-нормандском наречии – языке, вошедшем в обиход в Англии после вторжения Вильгельма Завоевателя в 1066 году и больше походившем на французский, чем на английский. Возможно, этот человек действительно путешествовал, а может, он все выдумал, черпая различные подробности из других книг, восходящих еще к Плинию и Геродоту – первым авторам, от которых и пошла традиция изображать Восток краем, населенным чудовищами и драконами.
Но если Мандевиль в действительности не бывал в местах, которые описывал, то ему удалось одурачить множество своих современников-европейцев, которые принимали его книгу за достоверный источник. Экземпляр “Приключений…” Мандевиля имелся в библиотеке Леонардо да Винчи. Христофор Колумб читал это сочинение перед тем, как пуститься в плавание на Восток через Атлантический океан, чтобы почерпнуть сведения о Китае. Рабле читал Мандевиля, когда готовился описывать путешествие Пантагрюэля в Индию. “Приключения…” были переведены на многие европейские языки, и все европейцы, читавшие это сочинение, окунались в азиатский мир роскоши и чудес.
Кем бы ни был в действительности автор, он представлялся английским рыцарем, который в первой половине XIV века пространствовал около тридцати лет, некоторое время состоял на службе у египетского султана, а позже – у правителя, которого он сам называл великим ханом. Он приводит бесчисленные подробности, например, из жизни татар: “Люди в той стране за любые дела берутся с новолунием и очень чтят Луну, еще они поклоняются Солнцу и часто становятся перед ним на колени. Обычно они ездят верхом без шпор, но в руке держат кнут, кнутовище или еще что-нибудь, чтобы подстегивать коней. Они почитают за великий грех всадить нож в огонь, вынуть ножом мясо из котла или горшка, ударить лошадь уздечкой, сломать одну кость о другую, вылить молоко или иное питье на землю. Но величайший грех, какой они признают за человеком, говорят они, – это если кто-нибудь помочится в доме, где они живут. Если кто-нибудь сделает это и они об этом узнают, то они убьют виновного. Помещение, где помочился человек, должно быть очищено, а иначе никто не отважится туда войти”.
Подобно другим путешественникам, Мандевиль наблюдал за женщинами в тех странах, где побывал, и в одних краях отмечал их красоту и белизну кожи, а в других описывал обряды и обычаи многоженства. “Есть другой прекрасный густонаселенный остров, – писал он, – где бытует такой обычай: когда женщина выходит замуж, она ложится в первую ночь не с мужем, а с другим молодым мужчиной, он берет на себя труд лишить ее девства, а наутро получает плату за свои старания”. Мандевиль решился расспросить о происхождении этого странного обычая. “Мне рассказали, что в старину в той стране некоторые мужчины умирали после того, как соединялись с девственницами, потому что у тех внутри тел обитали змеи, и они кусали мужчин за детородный орган, когда тот проникал внутрь, так погибло много мужчин, и с тех пор укоренился обычай вначале давать другим испытать этот неведомый путь, прежде чем самим браться за дело”.
Вот так история – прямо-таки предупреждение об опасностях, с какими бывает сопряжена погоня за наслаждениями! Змеи, прячущиеся во влагалищах юных девственниц! Быть может, так символически обозначались венерические болезни – наказание за похоть? Этого мы не знаем. На другом “острове” Мандевиль обнаружил обычай, который позже стал известен как сати, – когда женщин заживо сжигали на погребальном костре их умерших мужей: “Там считают, что огонь очищает, и что к ним после этого не пристанет никакой порок, и, очистившись от всего дурного, они воссоединятся с мужьями в загробном мире”. А еще был “другой остров посреди моря”, где мужчины “женятся на родных дочерях или сестрах и других родственницах и живут по десять, двенадцать, а то и больше человек в одном доме. Жены у всех мужчин там общие, каждую ночь спят с новой женой по очереди. Когда у какой-нибудь из жен рождается дитя, его отдают тому мужчине, который первым лег с его матерью, и никто не знает, чей это ребенок – его или чужой”.
Великим ханом, на чьей службе якобы состоял Мандевиль (если только он в самом деле бывал в Китае), был Тогон-Тэмур, потомок великого хана Хубилая, завоевавшего Китай и основавшего в XIII веке династию Юань. Тогон-Тэмур, известный как китайский император Хуэйцзун, правил Монгольской империей в период ее заката. В 1368 году монгольскую династию вытеснила новая и очень сильная династия Мин, так что Тогон-Тэмуру даже пришлось бежать в монгольские земли. Но и в пору распада и ослабления империи Мандевиль, побывав при дворе великого хана, увидел Восток как гаремный край, и описанные им картины еще несколько веков владели воображением европейцев. “Властелин ведет великолепную жизнь, – писал он. – У него имеется пятьдесят девиц, которые обслуживают его целый день за трапезой и на ложе и исполняют все его желания. И, когда он садится есть, они подносят ему мясо, всегда по пять блюд сразу, а принося эти блюда, они поют приятные песни. Они нарезают мясо перед ним и кладут кусочки ему в рот, будто малому ребенку, сам же он ничего не разрезает и ни к чему не притрагивается, а руки всегда держит перед собою на столе”.
За пятьдесят лет до Мандевиля в Китай совершил путешествие Марко Поло, и он побывал в Пекине, монгольской столице, еще в эпоху расцвета династии Юань, когда Китаем и большей частью Центральной Азии правил сам Хубилай. “Законных жен у него четыре, – писал Марко Поло, – у каждой свой двор, и у каждой по триста красивых, славных девок. Слуг у них много, и евнухов, и всяких других, и служанок; у каждой жены при дворе до десяти тысяч человек”.[9] Помимо жен, продолжал Поло, у Хубилая “есть… и другие подруги, и скажу вам что: нужно знать, что есть татарский род миграк; народ красивый; выбирают там самых красивых сто девок и приводят к великому хану…”.
Нетрудно представить себе, какое впечатление должны были производить на католическую Европу начала XIV века подобные рассказы о владыке, которого услаждают сразу сотни красавиц. Когда “Книга о разнообразии мира” Марко Поло была опубликована, она быстро стала одной из самых знаменитых книг в истории. При этом неудивительно, что многие считали Поло великим лгуном, выдумщиком лживых сказок, однако его повествование все равно долго пользовалось успехом. Поло не скупился на подробности. В его книге описывалось, например, как отбирались наложницы для императора: раз в два года лично для него устраивался особый смотр девушек, нечто вроде официального конкурса красоты. Уполномоченные Хубилая отбирали красивейших девушек народа миграк и назначали “знатоков, которые, тщательно осмотрев каждую, а особо волосы, лицо, брови, рот, губы и прочие черты, придавая внимание их симметрии, устанавливают их ценность в шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать или более карат в соответствии со шкалой красоты. Для великого хана отбирается требуемое, заранее оговоренное, количество девушек, оцененных в двадцать или в двадцать один карат, и их, отделив от остальных, отвозят к ханскому двору”.
Вслед за этим отборочным этапом, сообщает Поло, следует новое испытание будущих наложниц: “Великий хан приказывает дворцовым женщинам смотреть за ними, а тем спать с ними вместе на одних постелях, для того чтобы разведать, хорошо ли у девок дыхание, девственны ли они и совсем ли здоровы…” Затем кандидаток, успешно прошедших отбор, разделяют на группы: “Три дня и три ночи по шести девок прислуживают великому хану и в покое, и в постели; всякую службу исправляют, и великий хан все, что пожелает, то и делает с ними”.
Пока одна группа девушек ублажает Хубилая в постели, другая дежурит возле его опочивальни, чтобы приносить еду, питье или что-то иное, чего может пожелать император, а потому выбирались исключительно женщины, отличавшиеся красотой и источавшие приятные запахи. Тем, кто не удовлетворял взыскательным вкусам властелина, поручались другие дворцовые работы – например, пошив одежды или приготовление пищи, а если какой-нибудь мужчина из дворцовой челяди желал жениться, то получал одну из этих девушек, отвергнутых самим императором.
В исторических сочинениях обычно говорится, что “Книга о разнообразии мира” Марко Поло заставила европейцев обратить внимание на существование богатой и цивилизованной империи на Востоке, а это внимание в свою очередь способствовало географическим исследованиям, начавшимся в эпоху Возрождения. Быть может, Марко Поло способствовал и возникновению определенного образа Востока, который будил в мужчинах-европейцах желание самим сделаться маленькими императорами и заполучить все чувственные удовольствия, подобающие такому статусу? Венеция, куда Марко Поло вернулся в самом конце XIII века, не испытывала недостатка в царственной роскоши, зато секс считался там греховным – по крайней мере официально. А вот у Марко Поло в его деловитом описании гарема хана Хубилая не содержалось никакой моральной оценки, никакого порицания. Он как будто хотел сказать: если на Западе секс рассматривается как запретное удовольствие или в лучшем случае как удовольствие, предназначенное исключительно для продолжения рода, а само удовольствие считается враждебным благочестию, то на Востоке секс служит естественным и бесспорным дополнением к власти. А еще, конечно, сама мысль о том, что кого-нибудь могут каждую ночь ублажать сразу несколько девушек, самых прекрасных во всей стране, казалась сказочной грезой. Это похоже на картину земного рая, сходного с тем, какой обнаружил в XXI веке в Шанхае Китайский Прощелыга. Важнее всего здесь, пожалуй, то, что благодаря сочинениям Мандевиля и Поло сложился образ Востока как края, где девушек специально отбирают для мужских удовольствий.
Разумеется, и на Западе всегда существовали женщины, чье предназначение заключалось в ублажении мужчин, – любовницы или проститутки, куртизанки высокого уровня или уличные потаскухи. Дело не в том, что секс был доступен на Востоке и недоступен на Западе. Для людей, обладавших властью или просто деньгами, внебрачный секс был доступен всегда и в любых уголках мира как в XIV веке, так и в XXI. Дело в том, что Марко Поло, рассказывая о наложницах императора, ни словом не обмолвился о том, что это греховный и беззаконный обычай. Историк Саймон Шама, писавший о голландской проституции XVII века, говорил о борделе – разновидности демократизированного, коммерциализированного гарема – как о противоположности дома, о злом параллельном мире, противопоставленном доброму миру нормальной домашней жизни. “Сводни – это антиматери: их морщины говорят не о благочестии, а о порочности, их молитвы обращены не к Богу, а к Дьяволу. А сами девушки образуют нечто вроде антисемьи, живущей в антидоме, где они намеренно забывают уроки, которые обычно преподают детям в любом добропорядочном доме”.
Поло же внедрял противоположную идею, а именно что восточный гарем есть естественное продолжение дома, что потаскуха тоже член семьи, в которой каждая женщина выполняет свою работу в зависимости от способностей, то есть самые красивые ублажают главу семьи на ложе, а менее красивые готовят пищу или шьют одежду. В Голландии XVII века, описываемой Шамой, служанка выступала “подрывным элементом”, потенциальной соблазнительницей хозяина дома, и за ней следовало приглядывать. А из описания Марко Поло следует, что в Китае имело место гармоничное соглашение, исключавшее всякие интриги, соперничество из-за благосклонности императора и заговоры супруг в пользу собственных сыновей, о чем обычно рассказывалось в других описаниях восточных гаремов. В его идеализированном повествовании не упомянуто ни одной опасности того свойства, что описывал Шама. На Западе утопия изображала мир духа, свободного от плоти. На Востоке она представала местом, где одну плоть каждые три дня заменяли другой.
Европу веками завораживал образ гарема. Многочисленные путешественники силились разузнать его пресловутые тайны, хотя на самом деле никто не рассказал нам о гареме больше, чем Марко Поло, который в любом случае раскрыл главную тайну: гаремы существуют, посреди могущественного государства на Востоке находится сказочно-чувственный дворец, где мужчины предаваются наслаждениям, не испытывая никаких религиозных или нравственных терзаний или сомнений.
Отступление первое
Янсук
Если вы мужчина и вам нравятся стройные, изящные женщины, то вы наверняка не прошли бы равнодушно мимо Янсук – тридцатисемилетней кореянки, живущей сейчас в Нью-Йорке. Она миловидна, сдержанна, талантлива и умна. У себя в Южной Корее она была художником-мультипликатором и делала успешную карьеру. Если ваши дети смотрят сериал “Губка Боб Квадратные Штаны” или другие передачи на мультипликационном канале, значит, они видели ее работы.
Янсук приехала в Нью-Йорк в 2006 году после неудачного брака на родине, который разрушил ее надежды и принес лишь разочарование в любви. Ее история может послужить наглядным объяснением того, почему некоторые азиатские женщины предпочитают вступать в отношения с американцами или европейцами. Только не льстите себе, господин американец! Женщины вроде Янсук бегут в Америку не из-за вашего непреодолимого обаяния или мужественности, они просто бегут – и от кого-то другого, и от незыблемых традиций, и от старомодного отношения к себе, то есть от всего того, что является досадной помехой для современных женщин вроде нее.
В случае Янсук помехами оказались обстоятельства, которые поначалу выглядели более чем благоприятными. Сама она родилась в Сеуле в обеспеченной семье, а за несколько лет до переезда в США вышла замуж за корейца, своего ровесника, который до этого учился в американском университете. Нельзя сказать, что это был брак по какой-то страстной любви, хотя Янсук была счастлива. В течение пяти лет, пока ее будущий муж учился в Америке, они постоянно общались при помощи электронной почты и по телефону. А потом молодой человек прилетел домой на короткие каникулы, и Янсук узнала сразу две новости: во-первых, его отец, бизнесмен, которого она очень уважала, болен смертельной болезнью крови; во-вторых, ее бойфренд хочет жениться на ней.
Ее несколько удивило, что он сделал ей предложение так внезапно – после пяти лет ровных отношений. Но она ответила согласием. Она его любила. “Он был добрым и нежным, – сказала она мне. – К тому же я была уже не юна”. Кроме того, она бы породнилась с богатым и видным семейством, и это было бы приятно ее родителям. Она надела белое свадебное платье и обвенчалась со своим возлюбленным.
Но вскоре Янсук поняла, что ее замужество далеко от романтического идеала. Выяснилось, что ее муж, несмотря на ум, доброту и в придачу американское образование, придерживался крайне старомодных взглядов на роль и место жены в семье. Он решил жениться на Янсук, выполняя традиционный сыновний долг почтения, потому что считал своей обязанностью подарить глубоко уважаемому отцу невестку до того, как тот умрет, а время поджимало. Опять-таки из чувства сыновнего долга он решил приступить к изучению медицины в Корее, в городе, находившемся далеко от родительского дома, чтобы приобрести необходимые знания и самому вылечить отца. Уезжая на учебу, он ясно дал понять Янсук, что ей следует жить вместе с его родителями и принимать участие в уходе за его больным отцом.
Уже не в первый раз от Янсук ожидали, что она пожертвует собственными интересами ради корейского мужчины. Она годами работала, чтобы скопить денег и осуществить свою давнюю мечту – поступить в художественную школу. Она понимала, что у нее есть некоторый талант. Действительно, она самостоятельно овладела техникой рисования настолько, что стала мультипликатором мирового класса, но ей все-таки хотелось получить официальное образование. Однако у нее был старший брат, которому представилась возможность учебы в Америке. И Янсук пришлось проститься с мечтой, потому что ее родителям было не по карману отправить в колледж обоих детей. Родители попросили ее отдать брату часть заработанных денег, чтобы он взял их в Америку. Янсук так и не поступила в художественную школу.
Сейчас Янсук без горечи говорит о традиционных ролях, которые отводятся в Корее мужчинам и женщинам. Она считает, что за последнее десятилетие многое изменилось. Образованные корейские мужчины лет двадцати с небольшим гораздо больше похожи на своих американских сверстников, чем мужчины, которые лет на двадцать их старше: они охотно помогают по хозяйству, с пониманием относятся к карьерам жен и активно заботятся о детях. Наверное, перемены затронули и женщин – и скорее всего, какая-нибудь молодая кореянка, выросшая в городе и, подобно Янсук, получившая образование, не стала бы мириться с той ролью, которую безропотно приняла Янсук. Когда ее новоиспеченный супруг решил, что она должна остаться в доме его родителей, чтобы помогать свекру и свекрови, она согласилась. “Я сочла это своим долгом”, – пояснила она. В течение трех лет, пока не скончался свекор, она жила в богатом доме родителей мужа, редко видя его самого. Все это время она исполняла роль послушной невестки, если не считать того, что она все-таки продолжала работать в мультипликационной студии, отвергая настойчивые просьбы просто сидеть дома весь день. Они никак не могли понять, зачем ей работать. Ведь она же ни в чем не нуждалась! Конечно, дело было в огромной культурной пропасти – не только между ней и родителями ее мужа, но и между многими кореянками из среднего класса и обществом, исповедующим одновременно два противоречащих друг другу воззрения: женщины равноправны с мужчинами, но тем не менее обязаны играть положенную роль в традиционной семейной жизни.
Культурное непонимание проявилось и тогда, когда свекровь Янсук начала ругать ее за то, что она так и не родила ребенка до того, как умер патриарх семьи. Янсук возражала: “Как же вы можете ожидать, что я забеременею, если я так редко вижусь с мужем?” Но вина в подобных случаях всегда взваливается на невестку и никогда – на обожаемого семьей “принца”. Соседи начали судачить о бесплодии Янсук. Она чувствовала, что с ней обходятся несправедливо, и тосковала.
Позже, когда смерть свекра освободила девушку от обязанности ухаживать за ним, муж продолжал настаивать на том, чтобы она по-прежнему жила у его матери. Он продолжал учиться и жил в крошечной комнатке в общежитии, где им обоим было бы слишком тесно. Почему он предпочитал такое положение? Янсук так этого и не узнала. Может быть, ее муж влюбился в другую? Может, он завел любовницу? По-видимому, он не испытывал особенного влечения к жене, но в обществе, где секс оставался полузапретной, неудобной темой для разговора, молодые супруги едва ли могли откровенно обсудить этот вопрос.
Янсук решила подать на развод и в итоге после трех лет упорной борьбы добилась его, несмотря на сопротивление мужа и его родни. Затем она подала заявку на поступление в школу косметологов в Нью-Йорке. Мультипликация в Корее, теснимая китайскими и индийскими конкурентами с их компьютерной анимацией, пользовалась все меньшим спросом, и Янсук опасалась, что вскоре лишится заказов. А еще она понимала, что корейское общество вряд ли способно предложить блестящее будущее женщине старше тридцати, пытающейся начать с нуля.
“В Корее мало кто из мужчин готов жениться на разведенной женщине”, – говорит она. Она считает, что, несмотря на происходящие перемены, ситуация в Корее по-прежнему складывается против женщин, хотя не все так однозначно. Корея, единственная азиатская страна с преобладанием христиан среди населения, в сексуальных вопросах остается одной из самых консервативных в мире. В 2007 году сорок семь человек угодили в тюрьму за нарушение действующих в стране законов против прелюбодеяния, в основном это были мужчины, на которых жены подали в суд за супружескую измену. В том же году известная актриса, играющая в сериалах, Со-ри Ок, произвела настоящую сенсацию, признавшись, что у нее роман с другом ее не менее известного мужа, тоже актера из сериалов. Но, пока ее муж подавал на развод, сама Ок тоже обратилась в суд, чтобы оспорить конституционность правил в отношении прелюбодеяний, в которых (пусть обычно их считали направленными на защиту женщин) она усматривала несправедливое вмешательство в право женщин самостоятельно распоряжаться своей сексуальной жизнью. Впрочем, Ок потерпела сокрушительное поражение. В 2008 году суды поддержали закон против прелюбодеяний, и в том же году актрису обвинили в совершении преступления и приговорили к шести месяцам условного наказания. В октябре 2008 года самая популярная корейская актриса, Чхве Чин-силь, покончила с собой, по-видимому, отчасти из-за того, что после ее развода в 2002 году ей прекратили давать работу в кино и на телевидении.
Янсук понимала, что царящее в стране предубеждение против разведенных женщин неизбежно обернется и против нее самой. Поэтому она перебралась в Нью-Йорк и поступила в институт, разрабатывавший средства ухода за кожей и занимавшийся массажной терапией. Правда, ей немного одиноко в Нью-Йорке. У нее еще остаются кое-какие сбережения с той поры, когда она работала мультипликатором, но ей приходится экономить: жизнь в Нью-Йорке дорога. По-английски она говорит не слишком бегло, но объясниться умеет и постоянно совершенствуется в языке. Этого вполне достаточно, чтобы подружиться с кем-нибудь и поддерживать романтические отношения – если только она встретит мужчину, который придется ей по душе (но пока этого не случилось).
Она хороша собой, и быть может, вскоре какой-нибудь счастливчик завоюет ее сердце. Но пока такая перспектива кажется Янсук очень отдаленной. Она учится на косметолога, но к ней вернулась ее давняя мечта. “Как только я приехала в Нью-Йорк, я сразу стала ходить по музеям и галереям, – рассказывает она. – Просто фантастика! И мне снова захотелось стать художницей”. Эта мечта не из тех, что встретила бы поддержку у традиционно настроенных корейцев. Даже ее родители, которые очень хотят, чтобы она вернулась домой, настроены против ее планов. Они считают, что в тридцать семь лет она чересчур стара, чтобы поступать в школу. Но в свободные часы она готовится к тесту на знание английского языка как иностранного – этот тест требуется пройти, чтобы поступить в американскую художественную школу.
В ответ на вопрос, каких перемен ей хотелось бы в личной жизни, она говорит, что ее по-прежнему тяготят воспоминания о неудавшемся браке в Корее и что она не уверена, что готова к серьезным отношениям с кем-либо еще.
Может быть, она передумает. Все будет зависеть от характера ее предполагаемого поклонника, от его способности убедить ее в том, что новый брак не окажется болезненной ошибкой. У нее открытый, восприимчивый ум – она охотно дала бы шанс любому, кого полюбит, неважно, какой он будет национальности. Но пока, добавляет Янсук, она очень сомневается, что ее избранник будет корейцем.
Глава 3
Этот прохвост Лодовико
В самые первые годы XVI столетия – в ту пору, когда совершил свои полные приключений странствия Лодовико Вартема, итальянец на службе у короля Португалии, – в западную литературу проникли мотивы, которые чрезвычайно раззадорили и без того взбудораженное западное воображение, а впоследствии всплывали снова и снова на протяжении всей истории эротического взаимодействия Востока и Запада. Лодовико отплыл от берегов нынешней Саудовской Аравии в сторону Индонезийского архипелага, но высадился уже в Адене, на южном побережье Аравийского полуострова. И там впутался в романтическую связь с местной царицей. Этот сюжет служит своего рода шаблоном, повествовательным архетипом для дальнейших историй.
Рассказ Лодовико богат событиями, в числе которых пример словно бы вывернутых наизнанку важнейших человеческих отношений, то есть любви между мужчиной и женщиной. Иначе говоря, Лодовико, попав в крайне опасное положение, отбросил всякие понятия о рыцарской чести, какие в подобных обстоятельствах могли бы сковывать его в Европе. Он первым поступил так, как впоследствии станет поступать бесчисленное множество западных мужчин, ведущих себя в Азии так, как немыслимо вести себя дома.
В достигшем расцвета мире ренессансного гуманизма, откуда явился Лодовико, в делах любви и секса господствовала официальная доктрина, совпадавшая с учением католической церкви и отчасти унаследовавшая воззрения средневекового рыцарства, хотя в ней уживалось много противоречивых взглядов. Позже богохульный и скабрезный французский писатель Франсуа Рабле (он был на поколение младше Лодовико) сочинит свои насквозь пародийные шедевры, на которые церковь наложит запрет. Так что если сам Лодовико и не являлся образцом верного рыцаря, то он был далеко не одинок. Мир делился на праведников и распутников. Лодовико, несомненно, попадал во вторую категорию, и он сам должен был это понимать. В соответствии с западными идеалами, в которых, разумеется, воспитывался Лодовико, рыцарь (по-итальянски cavaliere) стремился в сражениях завоевать любовь своей дамы, охотно рисковал ради нее жизнью, готовясь пожертвовать собой, если понадобится (во всяком случае теоретически). “Рыцарь и его дама сердца, герой ради любви – вот первичный и неизменный романтический мотив, который возникает и будет возникать всегда и всюду, – писал Йохан Хёйзинга. – Это самый непосредственный переход чувственного влечения в нравственную или почти нравственную самоотверженность, естественно вытекающую из необходимости перед лицом своей дамы выказывать мужество, подвергаться опасности, демонстрировать силу, терпеть страдания и истекать кровью”.[10]
Этот рыцарский идеал чаще всего находил выражение в средневековых турнирах – аристократических спортивных состязаниях, когда двое облаченных в латы всадников неслись навстречу друг другу с копьями наперевес, а какая-нибудь прекрасная девица, затаив дыхание, глядела на них с замковой стены. За любовь нужно было пострадать. Готовность идти на страдания простиралась вплоть до желания спасти невинную девушку от грозящей ей великой опасности – до “охраны девичьей целомудренности”, как выразился Хёйзинга. В сказочном варианте Даму В Башне – известнейшим примером выступает Рапунцель – спасает от злой ведьмы прекрасный принц. Разумеется, идеал не совпадал с действительностью, и для тех, кто отнюдь не являлся рыцарем, особенно для бюргерского населения городов, такое времяпрепровождение, как рыцарские турниры и благородные страдания во имя возлюбленной, казалось всего лишь нелепыми и притворными забавами высших сословий, да и нам, пожалуй, они кажутся немного смешными: в современном мире рыцарство сделалось чем-то вроде пережитка “темных веков”.
В таком контексте рассказ Лодовико о своих любовных похождениях, приключившихся при султанском дворе, выглядит вполне современной пародией на куртуазную любовь, потому что единственная опасность, которая нависала над ним, является ему вовсе не в обличье дракона, которого надлежит убить, и не в обличье ведьмы, которую нужно перехитрить, и даже не в обличье соперника, которого необходимо вышибить из седла: опасность заключается в попадании в любовные сети госпожи. Лодовико изобразил себя персонажем приключенческой истории, где герой не скован такими добродетелями, как любовь, честь и верность, и волен спасать собственную шкуру какими угодно средствами. Это гораздо менее романтичное, но психологически более реалистичное повествование, нежели романы и сказки о рыцарственном самопожертвовании.
Кроме того, Восток в рассказе Лодовико представал местом, где о добродетели можно было забыть. Это край, где вместо строгих ограничений, предписываемых рыцарским кодексом и навязываемых церковью, царит полная свобода нравов. Похождения Лодовико в Счастливой Аравии (Arabia Felix), как ее тогда называли, отделяет от похождений американских солдат в Индокитае долгий извилистый путь длиной почти в пятьсот лет. Место и время этих похождений различаются не меньше, чем языки и обычаи женщин и мужчин в тех краях. Объединяют их главные черты: полное снятие ограничений и возможность делать то, что находится под запретом на родине. К тому же в рассказе о любовных приключениях Лодовико мы находим и другие особенности, предположительно немыслимые на Западе. Например, мы видим пылкую, в высшей степени сексуальную женщину, которая, не делая тайны из своей страсти к якобы превосходящему местных мужчин иноземцу с Запада, выступает полной противоположностью европейского любовного идеала – идеала чистой, целомудренной и даже как будто бесполой возлюбленной.
Лодовико, родившийся около 1470 года, известен как первый гяур, совершивший паломничество в Мекку и Медину. Он умудрился проделать это, став членом мамлюкского гарнизона, охранявшего в 1503 году караван, двигавшийся из Дамаска. Должно быть, он обратился в ислам, чтобы стать мамлюком, потому что мамлюки – это рабы-чужеземцы, захваченные султаном или шейхом, которых обращают в ислам, а потом обучают солдатскому делу; самые известные мамлюки сделались могущественной военной кастой, добившейся самостоятельности и правившей Египтом с XIII до XVI столетия. Подвергся ли Лодовико для поступления в мамлюки обрезанию – операции, весьма болезненной для взрослого мужчины, особенно в те времена, когда местную анестезию еще не изобрели? Сам он об этом не упоминал. Но если он отважился с необрезанной крайней плотью выдавать себя за мусульманина, то его маскарад не только становился более опасным, но и вполне вязался с его всегдашней тягой к притворству: он лгал и лицемерил всякий раз, когда видел в этом выгоду для себя. Обращение Лодовико в ислам независимо от того, делал он обрезание или нет, было не более искренним поступком, чем впоследствии – его клятвы аравийской царице в любви и верности.
Каковы бы ни были личные качества Лодовико, оставленные им описания священнейших для мусульман мест даже знатоки признают удивительно точными. Но Мекка и Медина – это только начало его великих приключений. Из Мекки он отправился в Джидду, чтобы раздобыть лодку и, проплыв по Красному морю, миновав Баб-эль-Мандебский пролив, попасть в Аден, а там сесть на корабль, направлявшийся вначале в Персидский залив, а затем в Индию. В течение многих месяцев он исследовал Южную и Центральную Азию, в том числе территории нынешних Афганистана и Ирана. Он вернулся в Индию, посетил Цейлон, а затем отправился на Суматру, Яву и Борнео. Он стал первым итальянским путешественником, достигшим столь отдаленных земель на востоке. Потом он повернул на запад, побывал на Малабарском побережье Индии, поступил солдатом в португальский гарнизон, переплыл Аравийское море и попал в Танганьику, затем посетил Мозамбик, который уже тогда являлся португальским форпостом, и наконец возвратился в Европу через мыс Доброй Надежды и Азорские острова.
Это было невероятное путешествие, и Лодовико, прекрасно понимавший, какой интерес оно вызовет, опубликовал в 1510 году в Риме “Путешествия Лодовико Вартемы”. Рассказав об увиденных землях, он, по словам великого британского исследователя и первооткрывателя XIX века Ричарда Бёртона, “попал в первые ряды старинных землепроходцев Востока”. Его книга выдержала десятки изданий и переизданий на всех основных европейских языках, а это означает, что многие грамотные европейцы ознакомились с пикантной историей, которая впоследствии служила прообразом многих эротических и романтических сюжетов, сводивших воедино Восток и Запад. История эта приключилась после того, как Лодовико покинул Мекку и высадился в Адене по пути в Индию.
Аден, ныне столица Йемена, был в ту пору оживленным портом в стране, которую Лодовико вслед за древними римлянами называл Счастливой Аравией и которая, по его словам, “подчинялась мавританскому владыке” и “была весьма плодородна и благополучна, подобно христианским государствам”. На второй день пребывания в Адене “некие мавры” подслушали, как один из спутников Лодовико называет его “псом-христианином”, и после этого Лодовико обвинили в шпионаже в пользу Португалии, которая незадолго до того захватила несколько местных кораблей в Аравийском море. Лодовико заковали в цепи и, поскольку султан был в отлучке, потащили “с превеликой жестокостью” во дворец его заместителя, вице-султана. Там, по свидетельству рассказчика, его продержали сорок пять дней, после чего султан возвратился домой с очередной из своих многочисленных войн, и тогда Лодовико повели к самому властелину для допроса.
Лодовико, немного освоивший местный язык, сообщил султану, что является римлянином, но сделался мамлюком в Каире и, побывав в Мекке и Медине, стал теперь “добрым мавром” и рабом султана. Но, когда султан потребовал, чтобы он прочитал мусульманский “символ веры” (имелись в виду, вероятно, какие-то строки из Корана), Лодовико не сумел этого сделать, и султан велел заточить его в замок в городе, который Лодовико назвал Рада (Rhada). Возможно, это современный город Рада (Rada’a) в Йемене, где находятся знаменитейшие в стране средневековые руины.
Через два дня после неудачной аудиенции Лодовико султан во главе своей армии отбыл на войну с султаном Саны (Sana’a), и в этом месте Лодовико прерывает рассказ о своем заточении, чтобы подробно описать султанское войско, щиты, солдатскую форму и вооружение. А затем, вновь обратившись к собственному затруднительному положению, он заявляет, что стал одним из первых европейцев – во всяком случае, со времен падения Римской империи, – совершившим эротическое покорение Востока.
Итак, мы узнаем, что Лодовико попал в беду, притворившись, будто перешел в ислам, солгав о себе и затем угодив в темницу по приказу местного тирана, у которого не было причин проявлять милосердие. К счастью для Лодовико, его не приковали к стене какого-нибудь смрадного подземелья, где о нем забыли бы все, кроме стража, носившего ему хлеб и воду. Ему предоставили возможность прогуливаться по внутреннему двору замка, под окнами (как рассказывал Лодовико) “одной из трех жен султана, которая жила с двенадцатью или тринадцатью смуглыми, почти чернокожими девицами-служанками”. Лодовико сообщал, что в тюрьме у него было два товарища по несчастью и что сообща они решили, что одному из них “следует притворяться сумасшедшим, чтобы лучше помогать остальным”. Когда подошел черед Лодовико разыгрывать безумие (эту задачу он нашел “изнурительной”), он заметил, что привлек внимание царицы и ее служанок: они наблюдали за его представлением со своей выигрышной позиции у окна.
Зная, что царица смотрит на него, Лодовико принялся выказывать безумную храбрость, силу и дерзость. Он даже передразнил султанский допрос: велел овце прочитать вслух “мусульманский символ веры”, а потом, видя, что она молчит, в наказание перешиб ей ноги. Далее Лодовико сообщал, что отдубасил еврея, оставив этого “недочеловека” валяться мертвым, а потом встревал в другие драки, продолжая волочить за собой тяжелые цепи, – пока наконец царица не велела привести его во дворец, к себе в покои, по-прежнему в кандалах, и не принялась восхищенно его разглядывать.
“Будучи умной женщиной, она поняла, что я вовсе не безумен, – писал Лодовико, – и окружила меня заботой: велела выдать мне хорошую постель, такую, на каких все там спят, и присылать мне обильные яства. На следующий день она приготовила мне ванну по тамошним обычаям, с множеством благовоний, и продолжала всячески баловать меня в течение двенадцати дней. Затем она стала приходить ко мне по ночам, в три или четыре часа, и всегда приносила что-нибудь вкусное”.
Вскоре царица начала выказывать признаки любви к этому диковинному узнику-европейцу. Она смотрела на него, писал Лодовико, “словно на какую-нибудь нимфу и возносила жалобы Богу в таких словах: «…О Господи, ты сотворил этого человека белым, как солнце; ты сотворил моего мужа черным, и сын моей черен, и я сама черна. О Господи, если бы только этот человек был моим мужем. О Господи, если бы я родила сына, похожего на этого человека”.
Поддавшись чувствам, влюбленная царица заливалась слезами. Она проводила пальцами по телу Лодовико и обещала, что, когда вернется султан, она позаботится о том, чтобы с пленника сняли оковы. А на следующую ночь она открыто предложила себя Лодовико. Если она ему не по вкусу, сказала она, то он может лечь с кем-нибудь из ее служанок. Когда Лодовико ответил, что, приняв ее предложение, он рискует лишиться головы, она заверила его, что никакая опасность ему не грозит: “Я дам собственную голову на отсечение, лишь бы тебя не тронули”. Но Лодовико, по крайней мере если верить тому рассказу, который он предложил европейским читателям, отклонил любовное предложение царицы. Он рассудил, что, если он согласится, она, конечно же, осыплет его дарами – золотом, серебром и лошадьми, – но и приставит к нему стражу из десяти черных рабов, и тогда ему ни за что больше не вырваться из Счастливой Аравии.
“Я бы уже никогда не смог убежать из этой страны, потому что меня искали бы по всей Счастливой Аравии, точнее ловили бы на заставах, – писал Лодовико. – И если бы я когда-нибудь решил улизнуть, то меня покарали бы смертью или заковали в железо на всю жизнь”. Делясь такими соображениями, Лодовико как бы берет своих европейских читателей в сообщники. Быть может, царица действительно влюбилась в Лодовико, но при всей искренности ее чувства она была наивна, как наивны все примитивные народы. Лодовико же, напротив, был человеком искушенным, но ему приходилось идти на обман, как, например, тогда, когда он пытался уверить султана, что принял мусульманство. Влюбившись в него, царица спасла его от пожизненного заключения в арабской тюрьме, однако ее любовь представляла для узника угрозу уже другого рода, и Лодовико принялся тянуть время, надеясь найти какую-нибудь лазейку.
Наконец возвратился султан, и Лодовико удостоился новой аудиенции. Царица, тоже присутствовавшая в зале, потребовала его освобождения. Когда султан согласился освободить пленника и спросил, куда бы он желал отправиться, Лодовико притворился, что не желает иной участи, кроме как остаться в Счастливой Аравии и до конца жизни быть верным рабом султана. Царица увела Лодовико. Она снова осыпала его поцелуями и сказала: “Если ты будешь угождать мне, то сделаешься важным человеком”. Лодовико прибегнул к привычной стратегии. Он ответил царице, что слишком слаб и голоден, чтобы помышлять о любви. Царица стала каждый день приносить ему “яйца, курятину, голубей, перец, корицу, гвоздику и мускатный орех”. Он поехал вместе с царицей и ее свитой на охоту, а по возвращении восемь дней притворялся больным. Наконец он заявил ей, что “принес обет Аллаху и Магомету” и обязан посетить одного святого в Адене. Царице понравилось такое религиозное благочестие, и она, проявив всегдашнее простодушие, снарядила Лодовико в путь, снабдив его верблюдом и двадцатью пятью дукатами золота.
Оказавшись в Адене, Лодовико разыскал капитана иностранного судна и условился, что после нового объезда Счастливой Аравии поплывет с ним к следующему месту назначения – в Персию. Излишне говорить, что царица больше никогда не увидела объект своей любви.
Странствия Лодовико, совершенные в начале XVI века, относились к самому раннему этапу эпохи географических открытий: всего за несколько лет до этого Васко да Гама проложил морской путь вокруг мыса Доброй Надежды к Индии, а спустя примерно десятилетие другой его великий современник, Фернан Магеллан, отправился в свое знаменитое кругосветное плавание. Иными словами, именно в те годы занималась заря колониальной эпохи, когда Португалия принялась учреждать торговые фактории на Малабарском побережье, а также в Китае, Японии и Южной Америке, хотя минует еще почти столетие, прежде чем Британия создаст Ост-Индскую компанию, и пройдет еще один век, прежде чем Европа покорит значительные по площади территории и добьется политического господства на Востоке. И все-таки уже в “плутовском романе” Лодовико содержится явно читаемая парадигма. Сколько еще в последующие века появится историй о том, как искатель приключений с Запада завоевывает любовь экзотической и миловидной принцессы? Сразу приходят в голову Покахонтас и Джон Смит – новосветская вариация на ту же тему. И дочь индейского вождя, и оставшаяся безымянной султанша из Счастливой Аравии спасают жизнь чужака, иноземца, вступившись за него перед правителем (в одном случае отцом, в другом – мужем), и обе готовы пожертвовать собственной головой, чтобы избавить от смерти приглянувшегося им человека.
Конечно, остается открытым вопрос, насколько правдивы обе эти истории. Зато с уверенностью можно сказать: какие бы события ни стояли в действительности за этими рассказами, они, несомненно, послужили проекциями характерных для Западной Европы эротических фантазий. В китайской литературе, пьесах и опере полно историй о дочерях императора, принцессах, которых отправляют в далекие дикие края, чтобы задобрить какого-нибудь опасного и враждебного властелина. В Азии известно множество историй о женщинах, которые пожертвовали собой во имя любви, отказавшись сделаться императорскими наложницами (существует много вариаций на эту тему), потому что желали сохранить верность простому человеку – своей настоящей любви. Но не существует историй про мужчин из Азии, которые добивались расположения какой-нибудь западной принцессы. Одна из причин проста: азиаты не совершали географических открытий. Они не ездили на Запад. Их вообще не интересовал Запад, если не затрагивалась их собственная внешняя политика. И мужчины там не томились по западным женщинам. В Европе появилось множество книг, посвященных раскрытию тайн азиатского гарема, но ни одна азиатская книга не смаковала любовную жизнь королей Франции и Англии. В западном воображении – например, в опере “Мадам Баттерфляй” – восточная женщина влюбляется в мужественного белокожего мужчину с Запада, но никак не иначе. В коллективном сознании Европы и Америки совершенно невероятна история о том, как, скажем, француженка влюбляется в какого-нибудь заезжего авантюриста – перса или араба (разве что он оказался бы баснословно богатым отпрыском царского рода) и хранит ему верность, даже когда тот изменяет ей.
Рассказ Лодовико Вартемы выступает предтечей многих историй о любовных похождениях западных мужчин на Востоке. Часто случалось так, что европеец или американец проводил несколько холостяцких лет в Азии, а потом, когда приходила пора возвращаться на родину, бросал там подругу – местную девушку. Наверное, он клялся этой девушке в вечной любви и даже, возможно, делал это вполне искренне, потому что девушка была обаятельна и красива, она спасала его от одиночества, изоляции, чувства своей чужеродности и, наконец, утоляла его сексуальный голод. Но потом, через год или два, ему нужно было возвращаться к своей “настоящей” (как он полагал) жизни, а азиатская подруга никак не вписывалась в эти жизненные планы.
Этот сюжет встроен в западную культуру. Спустя почти столетие после первой постановки “Мадам Баттерфляй” на Бродвее вышло ее современное перевоплощение – мюзикл “Мисс Сайгон”, где сайгонская девушка из бара повторяет судьбу трагической героини – японки из оперы Пуччини. Сюжет мюзикла выглядит вполне правдоподобным, если вспомнить, что в 1960-е и в начале 1970-х у многих американцев во Вьетнаме завязывались любовные связи. Такая история (за вычетом самопожертвования девушки из бара, когда ее бывший возлюбленный возвращается во Вьетнам с новой американской женой) вполне могла произойти в реальной жизни.
Приключение Лодовико с царицей Счастливой Аравии – вот предтеча этих современных рассказов о трагической любви. Действительно, вполне можно поверить (если только есть хоть капля правды во всей этой истории), что любовь аравийской царицы к Лодовико была не менее опасна, чем любовь добродетельной Чио-Чио-сан к авантюристу Пинкертону в “Мадам Баттерфляй”, ведь неверность султану была чревата большим риском, возможно, даже смертной казнью. Сам Лодовико не поведал нам, подвергалась ли опасности царица, осыпая его “ласками”, хотя наверняка такое поведение, говорившее о неверности, должно было компрометировать ее в глазах султана, в чьем серале она жила. Лодовико словно намекает, что царица вольна была делать что хотела – возможно, потому что у султана были другие жены, к тому же он часто отлучался на войну, – но такое предположение едва ли было верным. Влюбившись в Лодовико, царица рисковала жизнью, как впоследствии и другие азиатские женщины, готовые пожертвовать собой ради любимых, которые вошли в их жизнь, явившись с далекого Запада. Убежав от ее ласки, Лодовико больше и не думал о ней. Во всяком случае, он нисколько не интересовался ее дальнейшей судьбой: он больше ни разу не упомянул ее в своей книге. А ведь царица, спасшая ему жизнь, по меньшей мере испытывала душевные страдания после его исчезновения, а еще – боль и грусть от мысли о его лживости и неблагодарности, но Лодовико и это ничуть не заботило.
Любовь царицы стала для него лишь орудием. Он воспользовался им, пойдя на лживые клятвы и обещания, лишь бы выкарабкаться из беды, и неужели кто-нибудь осудит его за это? Первые западные исследования Азии были сопряжены с большими опасностями для одиноких путешественников, и мы готовы простить им любые ухищрения, лесть или притворные знаки любви, к каким они прибегали для преодоления этих опасностей. Кто из нас вел бы себя иначе, попав во враждебное окружение на чужбине?
Из рассказа Лодовико можно сделать вывод о привлекательности путешествовавших по Азии западных мужчин в глазах местных женщин. Он, пожалуй, первым высказал мысль о якобы мужском превосходстве европейцев: он завладел вниманием прекрасной султанши благодаря физической доблести, дерзкой отваге (он ведь передразнил самого султана!) и не в последнюю очередь благодаря белизне кожи. Еще до встречи с султаншей Счастливой Аравии Лодовико успел заметить “пристрастие аравийских женщин к белым мужчинам”. Позднее укоренилось мнение, будто мужественному, более обеспеченному белому христианскому Западу суждено соблазнять Восток, причем Восток от этого только выиграет (за редкими исключениями вроде представленных в “Мадам Баттерфляй” и “Мисс Сайгон”). Востоку надлежит обратиться в христианство благодаря проповедям миссионеров и встать на путь материального прогресса благодаря торговле. А еще ему нужно ввести демократическое правление, приняв политическую опеку Запада. Подобные взгляды говорят о непомерной самоуверенности, это своего рода “сентиментальный империализм”, идущий рука об руку с “дипломатией канонерок”. Это уверенность в том, что Запад возьмет верх, а заодно и получит девушку, потому что он лучше, чем Восток.
Но в рассказе Лодовико читалось и кое-что еще, особенно в эпизодах, в которых он прикидывается набожным мусульманином, лживо клянется в любви своей спасительнице, жене султана, и открыто признается в своей неискренности европейским читателям, которые, как он прекрасно понимал, не станут его осуждать. Ведь в центре внимания благополучное бегство героя-авантюриста, а не разбитое сердце султанши. Здесь и происходит смена привычных понятий о нравственности: мысль о том, что на Востоке (считавшемся гнездом лукавства, суеверия и обмана) позволено лгать и в сфере религии, и в сфере чувств, начинает восприниматься как должное. Попадая на Восток, западный мужчина забывал о рыцарском идеале истинной любви, пускай даже женщина, временно ставшая предметом его любви (как в “Мадам Баттерфляй” и “Мисс Сайгон”), вызывала и восхищение, и жалость у западных зрителей, из-за того что сохранила верность своему вероломному возлюбленному. На Западе главным в сюжете оставалось спасение галантным рыцарем дамы или девицы, попавшей в беду, например сказочной Рапунцель, которую злая ведьма заточила в каменную башню. В случае Лодовико, напротив, Дама Из Башни приходит на выручку рыцарю, попавшему в беду, но наградой ей служит отнюдь не вечная любовь, а пренебрежение.
В истории Лодовико ощущается и легкая примесь горечи – как и в более поздних, предвосхищенных ею историях, вроде истории Чио-Чио-сан и Пинкертона (хотя там эта горечь становится гораздо сильнее). Ведь Лодовико мог остаться в Счастливой Аравии, купаясь в роскоши и почете, как князь, обретя “золото и серебро, лошадей и рабов и все, чего бы я ни пожелал”, как и Пинкертон мог бы навсегда остаться в доме над бухтой Нагасаки, где годами томилась и ждала Чио-Чио-сан. Но Лодовико отказался от княжеской жизни, которую мог провести рядом с султаншей и ее двенадцатью или тринадцатью “красивыми служанками”, потому что настоящую жизнь он – европеец, христианин и путешественник – представлял себе иначе, не в плену и неге, будто сокол-любимец в каком-нибудь мавританском дворце. Царице тоже следовало это понимать. Возможно, она и понимала, но все равно дала волю чувствам.
То же самое можно было бы сказать о тех азиатских женщинах, которые спустя столетия бросали вызов родительским или общественным правилам, требовавшим сохранять девственность, и отдавались каким-нибудь западным молодым мужчинам – быть может, студенту, бизнесмену, солдату или просто туристу, который приятно проводит каникулы. Ведь эти женщины тоже должны были понимать, на что идут, и скорее всего, некоторые понимали, хотя через какое-то время молодой человек уезжал домой, а оставленная азиатская женщина, как та аденская царица, больше никогда его не видела.
Разумеется, мы вправе воспринимать истории вроде рассказа Лодовико как фантазии, как проекции эротических грез западного мужчины на полотно восточного экрана. Особенно это относится к пассажу о якобы мужском превосходстве европейцев над азиатами. Позже подобные утверждения стали просто одним из “доказательств” общего доказуемого военного превосходства западной цивилизации. С чего бы, в самом деле, жене правителя, окруженной двенадцатью или тринадцатью служанками, влюбляться в какого-то прохвоста в кандалах, которого ее муж волен был казнить или миловать? Пускай Лодовико и впрямь был силен, дерзок и даже хорош собой, но с какой стати царице показалось, что он в чем-то превосходит ее соотечественников?
Можно найти очень простое объяснение: султанша скучала в серале, где, как мы еще увидим, прекраснейшие в стране девственницы влачили унылое, способное свести с ума, совершенно бессобытийное существование. Султанша, влюбленная в Лодовико, упоминала о своем чернокожем сыне, а это явно указывает на то, что когда-то ее приглашали на ложе султана, и раз она родила ему сына, то, несомненно, пользовалась при дворе значительным авторитетом. Но, возможно, султан уже давно не звал ее к себе на ложе, и она проводила день за днем в полнейшем однообразии. А коли так, то появление буяна и красавца Лодовико очень даже могло пробудить в здоровой молодой женщине дремлющие желания.
Возможны и другие объяснения, в том числе и белый цвет кожи Лодовико. Хотя это больше смахивает на западную мужскую выдумку, чем на правду, особенно если вспомнить, что все происходило еще в доколониальные времена, до того, как в Европе принялись беззастенчиво именовать европейских колонизаторов “высшей расой”. Скорее всего, Лодовико привлек султаншу не цветом кожи, хотя вполне возможно, что он ее действительно привлек. Его появление взволновало ее. Конечно, этот диковинный чужестранец мог показаться ей мужественным. Иными словами, представление о том, что восточные женщины непостижимо влюбляются в западных мужчин, вероятно, не является лишь порождением западной фантазии. Нельзя исключать, что в некоторых случаях такие влюбленности действительно случались, причем достаточно часто, чтобы породить некий социальный и романтический шаблон.
Не знаю насчет Лодовико, но, безусловно, в более поздние столетия какой-нибудь американец или европеец, живший в Азии, действительно обладал особым обаянием. История вроде “Мадам Баттерфляй” тогда начинает выглядеть вполне правдоподобной и из-за этого становится еще более щемящей. В наш просвещенный век западный мужской взгляд на азиатскую женщину как на податливое, покорное и к тому же пылкое существо считается – и является – расовым стереотипом. Но, похоже, имеется и обратный стереотип – когда восточная женщина видит в западных мужчинах посланцев некоей территории свободы, немыслимой на их собственной родине, территории, менее скованной отупляющими обычаями и таящей куда больше возможностей для женщины.
Рассказ Лодовико стал первым свидетельством того, что любовные отношения между Западом и Востоком не обязательно были односторонними и отнюдь не всегда пару составляли пассивная восточная женщина и властный, напористый западный мужчина-эксплуататор. Обе стороны могли проявлять инициативу и осуществлять свои фантазии.
Отступление второе
“Всего лишь страница в книге твоей жизни”
Жила в Тайбэе одна девушка. Это было в те дни, когда США еще не установили дипломатических отношений с материковым Китаем и американским студентам приходилось ездить на Тайвань, если они хотели учить китайский. Звали женщину мисс Лу, а работала она в Министерстве образования, в отделе, который оформлял западным студентам студенческие карточки, необходимые для получения долгосрочных виз. И в нее влюбился студент, молодой американец. Он находил предлог за предлогом, чтобы ходить в Министерство образования и общаться с девушкой по поводу каких-нибудь административных вопросов, пока ему не выдали визу. Похоже, девушка всякий раз радовалась его приходу – хотя, может быть, ему просто хотелось так думать? Однажды, когда он узнал, что его документы вот-вот будут готовы, он явился к ней в кабинет с последним визитом. Он нарочно пришел под конец дня, прикинув, что скоро мисс Лу пора будет уходить с работы и он сможет пригласить ее куда-нибудь на чашку чая.
План сработал как по маслу, что на самом деле случается редко.
“Это наш последний официальный повод для встречи”, – сказала мисс Лу, когда они вышли из министерского здания и попали в водоворот тайбэйской уличной жизни. И у молодого человека заколотилось сердце.
Его заворожила картина будущего, которая открылась перед ним. Значит, за внешней официальной маской, за бесстрастным взглядом скрывались ответные чувства! Мисс Лу приняла его приглашение на чашку чая, хотя и сообщила ему, что еще никогда не ходила никуда с молодым человеком наедине. Ей было около двадцати трех лет – в те годы, в начале 1970-х, для многих американок этого возраста случайные связи были уже обычным делом. Мисс Лу и американский студент уселись друг напротив друга в чайной, и он, решив, что его одиночество закончилось, и, конечно же, мечтая о романтических и эротических вечерах наедине с этой женщиной, спросил, не пойдет ли она с ним завтра вечером в кино.
“Нет-нет!” – ответила мисс Лу. И призналась, что тоже постоянно думает о нем в последнее время. Она уже написала о нем множество страниц в своем дневнике, однако теперь, сознаваясь в этом ему самому, хранила мрачный вид, словно речь шла о каком-то плохом известии.
“Но это же замечательно!” – воскликнул он и принялся рассказывать о том, с каким трудом выдумывал все эти мелкие административные недоразумения, как пересекал на автобусе весь город, направляясь в Министерство образования, только чтобы увидеть ее снова и задать незначительные вопросы, ответы на которые и сам знал. Это был волнующий момент откровенности и в то же время разочарования. Почему же она не хочет с ним встречаться, если испытывает взаимную симпатию?
За несколько лет до того, будучи еще студентом колледжа, этот же молодой человек побывал в Японии по обмену и в студенческом общежитии познакомился с хорошенькой юной японкой по имени Исуми. Он начал ухаживать за ней, и она, похоже, охотно принимала его знаки внимания, но, когда он попытался ее поцеловать, оттолкнула его.
Незадолго до того молодой человек посетил паровую баню в токийском районе Синдзюку, куда его привел один знакомый японец. Там, в этом немыслимо экзотическом для юного американца месте, его обслуживала привлекательная девушка (хоть настоящей красавицей ее нельзя было назвать). “ Ты девственник?” – спросила она и, не дожидаясь ответа, умастила его вздыбившийся член теплым маслом, тем самым доставив юноше самое приятное ощущение, какое он испытывал за свою еще короткую и бедную событиями жизнь.
Так вот, урок, который он усвоил, глядя на негодующее выражение лица Исуми, сводился к тому, что здесь, как и в других гаремных культурах, есть девушки для удовольствий и просто приятные девушки, и Исуми холодно дала ему понять, что принадлежит ко второй категории. “Я японка, – сказала она на своем безупречном английском, – и ты находишься в Японии”.
И вот теперь, в тайбэйской чайной, молодой американский студент получал похожий урок. “ Ты здесь только временно, когда-нибудь ты уедешь, – сказала ему мисс Лу. – Я останусь всего лишь страницей в книге твоей жизни, но для меня ты станешь целой книгой”.
Пожалуй, можно подумать, что реплика позаимствована из сценария какой-нибудь мыльной оперы, но мисс Лу действительно произнесла эти слова, и ее искренность придала им поэтическую глубину и оригинальность. Мисс Лу сказала “нет” и имела в виду “нет”, однако ее решимости было недостаточно, чтобы справиться со слишком сложной задачей. Однажды молодой человек и мисс Лу случайно встретились на местном рынке, среди лотков с бананами, манго и музыкальными кассетами, и остановились поговорить. Он заметил, что у нее новая прическа и что одета она более модно и менее строго, чем одевалась на работу. Они пошли в какую-то кофейню, долго сидели там и разговаривали, а потом молодой человек пригласил мисс Лу к себе в комнату, которую снимал в одном из номерных переулков рядом с улицей Амой.
Это была тесная комнатка, где едва хватало места для двоих: там помещались только кровать, стол и стул. В воздухе стояла прохлада поздней осени. Мисс Лу слегка дрожала, сидя на кровати, а молодой человек будто прилип к стулу, мучительно раздумывая над вопросом: что делать дальше? Пересесть на кровать – и пережить ужасный миг стыда, если мисс Лу отвергнет его? Или принять как очевидный знак согласия ее добровольное присутствие в его комнате?
Каждый вечер в том квартале Тайбэя появлялся разносчик и, проходя прямо под окном студентовой комнаты, нараспев в миноре выкликивал свой товар – традиционную тайваньскую закуску. “Ву-сян-ча-йе-дань”, – доносился мелодичный клич уличного торговца, выводимый дрожащим тенором, начинавшийся с высокой ноты, а кончавшийся низкой, так что каждый слог растягивался, превращаясь в горестный вздох: “Ча-а-айные-яйца-с-пятью-пря-а-аностями-и-и”. Этот уличный напев молодой человек запомнил на всю жизнь, хотя никогда больше не слышал его после того года в Тайбэе. Вот в переулке появился разносчик, его песня долетела до комнаты, а наш студент и мисс Лу на узкой кровати слились на миг (или на час?). Потом она сказала, что больше не станет с ним встречаться.
“Но почему?” – вскричал молодой человек, уже не на шутку злясь на такое упрямство, которое, как ему казалось, отвергает саму красоту жизни.
“Потому что через год ты уедешь, а я останусь здесь, ты заведешь другую подругу, а я буду страдать всю жизнь”, – объяснила она со слезами на глазах.
Пожалуй, молодой человек мог бы поддаться соблазну и пообещать ей что угодно в тот вечер, когда его мучило желание и одиночество. Он мог бы пообещать, что возьмет ее с собой, когда придет пора уезжать, или, по примеру Лодовико Вартемы, попавшего в западню в Счастливой Аравии, что останется на Тайване навсегда. Бывали же случаи, когда западные мужчины женились на своих тайваньских подружках, а некоторые даже решались остаться на Тайване, где и живут по сей день. Но студент понимал, что он не из таких людей, – в этом девушка была права. Когда пройдет положенный срок – год или чуть больше, – он вернется домой, чтобы строить будущую жизнь в Америке, а не в Азии. Для него девушка действительно стала бы всего лишь страницей в книге. Он желал ее, ему очень хотелось продолжить общение с ней, бесконечно повторяя тот миг близости в тайбэйской комнатушке. Он даже по-своему любил ее, ему нравились ее гладкие черные волосы, восточная хрупкость, тихий ум, обаяние, едва сдерживаемая страстность и даже то, как она еле слышно отвергала его приставания. Все это было так непохоже на внешне более грубых, более пресыщенных девиц, с которыми он учился в колледже у себя на родине. Но он полюбил ее лишь на время: он не собирался увозить ее в Америку, когда настанет пора уезжать.
Одной из особенностей западного присутствия на Востоке было то, что зачастую временное пребывание требовало временного же утешения. Мы еще увидим, что в таких странах, как Япония и Индия, с XVII до XIX века бытовала разновидность временного брака между западным мужчиной и восточной женщиной. Такую форму брака ввели для того, чтобы временные резиденты могли законно обзавестись местной подругой для общения и секса. Именно такой союз был заключен, когда Пинкертон брал в жены Чио-Чио-сан в Нагасаки, хотя Чио-Чио-сан нарушила условия уговора, потребовав от временного мужа вечной любви. Но это было давно. А в ту пору, когда наш студент оказался на Тайване, уже не существовало никаких временных браков, хотя приезжие с прогрессивного Запада все еще продолжали пользоваться незаслуженным вниманием местных женщин, а потом сплошь и рядом нарушали данные обещания. В этом смысле мисс Лу оказалась дальновиднее, чем Чио-Чио-сан и царица Счастливой Аравии.
“Но зато мы получили бы удовольствие сейчас, – умолял юноша, пытаясь склонить ее к мысли о временной связи при помощи нравственно-утилитарных доводов, очень распространенных в ту пору на Западе. – Ведь нам было бы хорошо сейчас!” Ему так и не удалось переубедить ее.
Он никогда не забывал о мисс Лу, и она, наверное, никогда о нем не забывала. Шли годы, и время от времени этот человек (сейчас ему уже сильно за шестьдесят) думал с легкой грустью о том пути, на который звала его мисс Лу и который он отверг, ощущая, что будет тосковать, если выберет его. И после того единственного любовного свидания на улице Амой, под аккомпанемент певучего голоса разносчика, выкликавшего названия закусок из яиц в чайном маринаде, он больше никогда не видел ту девушку.
Глава 4
Гарем в западном сознании
Около 1668 года британский дипломат Пол Райкот опубликовал книгу “Нынешнее состояние Османской империи”, которая с тех пор оставалась главным источником сведений об османах.
Райкот, побывавший британским резидентом в нескольких ближневосточных странах, в собственной стране слыл самым авторитетным знатоком Турции. В ту пору турки владели обширнейшей в мире империей, безусловно, соперничавшей и в площади, и в величии с тогдашней территорией китайской династии Цинь. Его книга представляла собой занимательно написанную энциклопедию – очередной систематизированный, выдержанный в серьезном томе травелог, какие вышли из моды лишь несколько десятилетий назад. Она была добросовестно нашпигована всяческими описаниями турецкой политики, общества и обычаев. Райкот оказался у истоков более позднего взгляда на Турцию как на страну восточного деспотизма (само это понятие появилось позднее), к которому, по его мнению, турки были предрасположены от природы. Книга Райкота повлияла на великого французского философа Монтескье, который в своем сочинении “О духе законов”, любимом американскими революционерами вроде Джона Адамса и Томаса Джефферсона, выделял три бытующих в мире типа правления: тиранию (как раз Турция), монархию и республику. Райкот приписывал восточный деспотизм некоей генетической предрасположенности (хотя, конечно, он не употреблял таких слов), которая в свой черед является плодом турецкого способа размножения. “Сам Великий Правитель, – писал Райкот, имея в виду султана, правившего империей из стамбульского дворца Топкапы, – родился от черкешенки-рабыни”, поскольку турки “всегда имеют много детей от наложниц, иногда даже больше, чем от жен, и это, без сомнения, зароняет в них склонность сносить даже самое тяжкое, тираническое иго, не выказывая ни малейшего сопротивления”.
Несомненно, читатели особенно жадно читали те страницы “Нынешнего состояния Османской империи”, где Райкот описывал гарем и сексуальную жизнь султана, которая, судя по приведенной выше цитате, по его мнению, была напрямую связана с политической культурой турок-осман. Казалось бы, людям, испытавшим на себе рабство, должно быть ненавистно “тираническое иго”, однако Райкот, похоже, думал, что либо рабы являются рабами, потому что таковыми рождаются, либо они мирятся с рабством, потому что по опыту видят, что таков естественный порядок вещей. Как бы то ни было, в Турции, где, как отмечал Райкот, мало кто из султанов производит потомство от официальных жен, даже сам султан был сыном рабыни.
Но Райкот не ограничивается лишь политическими выводами. Предложенное им описание Османской империи знакомит читателя с чувственным миром, который должен был казаться европейцам XVII века едва ли не фантасмагорией. Это мир огромного пышного дворца, где подушки на тахтах в залах совета обтянуты парчой, где над мраморными полами висят бархатные шторы, где парапеты и балюстрады обращены к лазурному морю, – мир, поставленный на службу тем самым желаниям, которые на Западе считались греховными. О гареме уже писали другие путешественники, например Марко Поло. Райкот же положил начало европейской традиции, так сказать, чувственной детализации в этой области. Он первым изобразил султанский сераль как отдельный мир со своими “пажами” – белыми и черными евнухами, с тысячами красивейших девственниц, привезенных из разных областей империи, и, главное, со счастливчиком султаном, чью благосклонность наперебой старались завоевать все эти прекрасные девственницы: “Всякий раз, как на Великого Правителя находит охота развлечься с кем-нибудь из своих наложниц, на все аллеи сада высыпают евнухи, и женщины тогда пускаются на все ведомые им уловки, дабы заслужить любовное внимание Великого Правителя, или принимая распутные позы и танцуя, или ведя промеж собой любострастные беседы. Когда он намечает себе для забав одну из этих наложниц, то направляется в женские покои, где его уже ожидают. Он бросает своей избраннице носовой платок. Эта дева опускается на колени и, поцеловав платок, прячет его у себя на груди. После того как она искупается, омоется и украсит себя богатыми тканями и драгоценными каменьями, ее отводят с музыкой и песнями в опочивальню Султана. Там ее принимает евнух, чей черед служить в этот день, и она преклоняет колена перед Великим Правителем, а затем восходит на ложе со стороны изножья, если только он сам не пожелает ввести ее с иной стороны”.
Рассказ Райкота изобилует дополнительными подробностями – например, как спали женщины в серале (в комнатах, где на каждой шестой кровати лежал евнух), как их учили музыке и танцам и, самое главное, как их раздобывали: большинство просто захватывали как добычу в военных набегах, “а из них уже отбирались самые красивые и доподлинно девственные”. От Райкота же берет начало и непременная шаблонная составляющая всех позднейших рассказов о турецком гареме – упоминание о том, что турки, особенно турчанки, отличаются (ввиду жаркого климата своей страны) большей любовной горячностью, чем европейцы (и следовательно, они менее цивилизованны). Евнухи были просто необходимы, потому что турки, как и народы большинства других восточных стран, “знают о развратных наклонностях женщин”. Некоторые, наиболее распространенные из этих наклонностей, как писал Райкот, “незаконны” – особенно лесбийские связи между девственницами. Если верить Райкоту, всего во дворце обитало около тысячи шестисот девственниц, ничем не занятых, и каждая надеялась вопреки всему, что именно ей достанется судьбоносный султанский платок и она проведет ночь или, может быть, несколько ночей на ложе султана, а потом – предел мечтаний! – родит султану сына и обретет тем самым гораздо более высокий статус.
Другие сообщения о турках были столь же благодушны, что и рассказ Райкота: султан представал в них толковым и романтичным правителем – строителем империи, который вдобавок вел сказочную сексуальную жизнь. Но, особенно после середины XV века, когда османы захватили Константинополь – город, который был столицей Восточной Римской империи, а потому на протяжении многих веков оставался форпостом христианской цивилизации на Востоке, – появились и иные сочинения, оскорбительного и нетерпимого характера, где турки изображались порочными людьми, даже извращенцами. Мартин Лютер писал, что турки “не ведают границ в запретных постельных утехах”. По донесениям различных путешественником, турки время от времени совокуплялись с животными – по словам одного рассказчика, с рыбами женского пола – и повально предавались содомии, для каковой цели, по словам одного автора, оскопляли красивых мальчиков и мужчин из христиан, “чтобы на теле у них не появилось ни малейших признаков мужественности, а когда у тех заживает рана, злодеи пользуются этими несчастными рабами для постыдного содомского блуда”.
В наш постфрейдистский век, конечно, возникает искушение истолковать всю эту литературу, мнимой целью которой являлось изображение нехристей сексуальными извращенцами, как выражение подавленных гомоэротических желаний. В ней читается предостережение от напасти, какая может разразиться, если выпустить на волю “содомитские” желания европейцев. Она вторит и другим сочинениям о куда более грозной Турции, появившимся после захвата османами Константинополя. Как и в описании татарского быта, сделанном Гильомом Рубруком, в таких рассказах об османах не было ни намека на женские образы того рода, что появлялись на страницах книг более поздних путешественников вроде Лодовико Вартемы, – образы, которые сделались главной особенностью представлений Запада о Востоке, после того как первому удалось завоевать второй. Однако у литературы, демонизировавшей турок, все-таки имелась общая черта с теми сочинениями и картинами, что живописали роскошную и полную чувственной неги жизнь осман: произведения обоих жанров изображали мир, где существовали гаремы, как полную эротическую противоположность Европы, где выше всего ценились единобрачие, целомудрие и обуздание влечений, почитавшихся нечистыми. Турция же, где царили скотоложство и содомия, являла собой образ ада земного и служила наглядным предостережением от бедствия, какое грозило человечеству, если оно вздумает потакать низменным побуждениям. Она выглядела безнравственной именно потому, что не чинила никаких помех самым фундаментальным желаниям.
Литература, образцом которой служило сочинение Райкота, манила разглашением пресловутой “тайны гарема”. Хотя в действительности никакой “тайны” гарема не существовало, поскольку его двойное предназначение – обслуживать потребности султана в удовольствии и поставлять для его престола наследников – едва ли оставалось неизвестным, – это понятие все равно обросло в Европе множеством значений и вызвало к жизни разнообразные произведения искусства и литературы. В трагедии Жана Расина “Баязет” и в опере Моцарта “Похищение из сераля” сераль (гарем) и турецкий двор служат местом действия для психологической драмы и для фарса соответственно. Но, как указывает ученый Лесли Пирс, европейский взгляд на турецкого султана, особенно после XVII века, изменился и выражал уже не восхищение, а презрение (несмотря на Моцарта). Из великого правителя и завоевателя султан превратился в “воплощение разнузданной тирании, а соблазнительный и порочный институт гарема служил явным доказательством его нравственного вырождения”. Этот взгляд относился не к одной лишь Турции, но и к остальным странам Ближнего Востока в целом. У таких несхожих между собой писателей, как Монтескье, автор “Персидских писем”, и Байрон, который обращался к этому образу в “Дон Жуане” и других поэмах, гарем выступал мощным символом политической тирании и сексуального господства, предупреждавшим об опасностях, какие грозят Европе, если она не обуздает монархию и консервативную политику в подвластных ей пределах.
Если отвлечься от политики, то гарем часто служил предметом изображения в западной живописи – от Энгра и Делакруа до художника Джона Фредерика Льюиса и карикатуриста Томаса Роулендсона. Энгр не раз обращался к теме гарема с его чувственными декорациями, и “Одалиска с рабыней” относится к числу его самых известных картин.
На картине изображена женщина с алебастровой кожей, что указывает на то, что перед нами рабыня, захваченная в одной из европейских провинций империи. Рыжие волосы каскадом спадают поверх руки на парчовое покрывало. Она лежит, изогнувшись, совсем обнаженная, если не считать покрывала из полупрозрачной ткани, небрежно наброшенного на бедра, и сама эта поза с заведенными за голову руками ясно говорит о готовности отдаться желаниям повелителя. Фоном служит дворцовый интерьер: красная колонна и красная портьера, украшенная инкрустациями балюстрада, замысловато расписанные стены. На втором плане стоит стражник комнаты – чернокожий евнух в тюрбане и парчовом халате, а у изножья кровати сидит еще одна рабыня, только полностью (и довольно роскошно) одетая, и играет на лютне. Это сцена “монастырской чувственности”, как выразился один исследователь. А так как Энгру, как и любому мужчине, кроме самого султана и его евнухов, вход в гарем был воспрещен (более того, под страхом смерти запрещалось видеть хоть одну из султанских наложниц), то “Одалиска”, как и многие другие его гаремные полотна, – фантазия чистой воды. Он “не ведал того, что изображал, и не видел того, что воображал”, как заметил маркиз де Кюстин в 1840 году.

Жан Огюст Доминик Энгр. Одалиска с рабыней. 1839–1840. Harvard University Art Museums
В этом все и дело – жизнь в полном заточении, протекавшая внутри гаремных стен, как раз и придавала гарему особое обаяние, окутывала его дымкой тайны. Так что слово “монастырская” в данном случае весьма уместно. Оно дает представление о том, что гарем служил своего рода похотливой пародией на европейские воззрения на семью и сексуальность. В Европе существовали женские монастыри – отгороженные от мира обители, где монашенки должны были хранить девственность, признавая лишь одного небесного супруга – Иисуса Христа. В христианском мире монастырь был надежным оплотом, где девушки и женщины были ограждены от сексуальных опасностей, таившихся за монастырскими стенами. В гареме же все обстояло ровным счетом наоборот. В Турции, Персии, Египте тоже имелись женские обители, где девственниц оберегали от повседневной тяжкой работы и от войны, но там их держали для утоления похоти могущественного господина. Самым обширным, самым роскошным, самым защищенным гаремом владел, конечно же, султан, но в Турции (а также в Персии, Китае или других “восточных княжествах”, как выражался Райкот) любой достаточно богатый или влиятельный мужчина имел право держать гарем. “Каждому турку позволено иметь четырех жен, – писал Райкот, – которых он обязан содержать, но еще ему позволено иметь столько наложниц-рабынь, сколько он сумеет прокормить. Жены-турчанки вполне этим довольны, лишь бы только муж не пренебрегал своими супружескими обязанностями перед ними самими, а по закону они вправе требовать этого хотя бы раз в неделю”.
Если бы средний европеец, богатый и влиятельный, всерьез задумался, то, пожалуй, нашел бы такой законный уговор скорее физически обременительным, чем многообещающим. Для султанов, которые тяготели к гомоэротическим связям, а таких было известно несколько, посещение гарема скорее сводилось к выполнению официального и физического долга, чем сулило любовные наслаждения. Некоторые западные исследователи отмечают, что гарем считали оазисом удовольствий лишь в результате нелепейшего недоразумения. “Слово гарем обозначает почтительное отношение, от него веет религиозной чистотой и честью, оно намекает на необходимые знаки уважения”, – писал один из таких исследователей. Само слово означает “святилище” и применяется к священному огороженному участку, и это ясно говорит о том, что изначально речь шла не совсем о сексе (или даже совсем не о нем), а о семейных отношениях и политике. Большинство женщин, живших в гареме, вообще никогда не попадали на султанское ложе. “Своим иерархическим устройством и вынужденным целомудрием, навязывавшимся большинству обитательниц” такое женское общежитие гораздо больше походило на монастырь, чем на бордель. Иными словами, гарем как “гнездо мусульманского разврата” – это западный миф.
И все равно гарем как место, служившее и наслаждению, и порождению потомства (будь это мифом или правдой), был тем, что делило мир пополам, и не просто на Восток и Запад, на Западную Европу и Левант, на христианские и языческие края, но еще и на круг земель, где гарем был обычным делом, и на области, где он считался греховной диковиной. Гаремные культуры, распространившиеся на бо́льшую часть человечества от Северной Африки до Восточной Азии, считали частью естественного порядка вещей обычаи, которые, по убеждению жителей Евразийского полуострова, известного как Европа, объявил смертельно греховными сам Господь Бог. Среди них было представление о том, что наиболее могущественные члены общества не должны ограничиваться рамками моногамного брака для секса и обзаведения детьми, а еще что секс и любовь – разные понятия и первое вовсе не обязательно влечет за собой второе. В силу другого восточного представления чем большей властью обладал мужчина, тем больше женщин ему полагается иметь. По сути, само пространственное устройство Османского двора и других императорских резиденций вроде дворцов китайских императоров наводило на мысль о прямой связи между властью и сексом. Там имелись общедоступные зоны, где проводились правительственные заседания, и внутренние частные покои, запретные для посторонних мужчин, где, как писал один итальянец, посетивший двор Мехмеда II, содержались “самые ослепительные, ухоженные и прекрасные женщины в мире”. А лишним подтверждением связи между властью и сексом служило то, что большинство этих прекрасных женщин (мы говорим о Турции) были военными трофеями: наглядное доказательство того, что женщины и девушки, захваченные для удовольствия султана-победителя, были как раз теми женщинами и девушками, которых оказался не способен защитить побежденный султаном правитель.
Власть всегда и всюду давала себе сексуальные поблажки, но эта банальная истина, остававшаяся неофициальной на Западе, находила выражение в узаконенной полигамии на Востоке. Там помимо представления, что правитель нуждается в наложницах для постельных утех, бытовало мнение, что, предаваясь этим утехам, сам правитель в целях собственной же безопасности должен избегать излишней эмоциональной привязанности к дарительницам наслаждения. Это четко проговаривалось в специальных книгах, адресованных правителям: наложницы не должны оказывать никакого влияния на государственные дела, и чем бо́льшую любовь испытывал султан к наложнице, тем большей опасности подвергалось государство. Действительно, в гаремных историях и преданиях важная роль часто отведена так называемой султанше-матери, то есть бывшей наложнице, чей сын в итоге сам делался султаном. В Османской Турции прекрасно знали, как можно добиться власти при помощи секса. И все же гаремная культура, отделявшая секс от любви, выступала противоположностью культуры христианской, где религия оговаривает, что любовь должна быть непременным условием секса. Сулейман Великолепный стал в этом отношении исключением среди султанов, потому что хранил верность единственной женщине. Это казалось настолько поразительным, что многие считали Хюррем (очевидно, она была русской или полькой, захваченной в бою) колдуньей, которая сумела безраздельно завладеть сердцем султана при помощи волшебных зелий, заклятий и прочих чародейских приворотов. Сулейман был современником короля Генриха VIII, который, как известно, вывел Англию из-под контроля католической церкви, с тем чтобы иметь возможность развестись с одной женой и жениться на другой: ведь в отличие от султана он не мог иметь двух жен одновременно. Забавно, что оба самодержца, каждый на свой лад, обманули ожидания подданных. Генрих полностью порвал с папским Римом, чтобы развестись с женой, а Сулейман, напротив, поверг соотечественников в изумление тем, что хранил верность одной женщине.
Можно доказать, что культура гарема, хоть и относилась с меньшим уважением к браку, отражала более реалистичный взгляд на человеческую природу, в особенности проявляя большее, чем на христианском Западе, снисхождение к слабости мужской половины человечества, для которой (как свидетельствовало множество случаев неверности на протяжении веков) единобрачие являлось весьма обременительным институтом. Несомненно, гарем, особенно с точки зрения современных ценностей, был чрезвычайно регрессивным явлением, порожденным патриархальным обществом и обеспечивавшим господство мужчин над женщинами, причем потребности самих женщин в удовольствии и, быть может, в разнообразии оставлялись безо всякого внимания. Монтескье и Байрон были правы, видя в гареме орудие сексуального и политического абсолютизма. Османы предпочитали, чтобы матерями будущих наследников престола становились не законные жены, а наложницы, потому что наложницам не требовалось оказывать такого же почета, какой подобал полноправным супругам. К тому же, возвышая невольницу до положения султанши-матери, вместо того чтобы жениться на дочерях других влиятельных людей или соседних правителей, османы не допускали возвышения тех семей, откуда в противном случае им пришлось бы брать себе жен, и это тоже способствовало укреплению султанской власти.
Разумеется, в противоположность полигамному Востоку институт моногамного брака, пускай даже много раз подрывавшийся случаями измены, выступал неким идеалом, который отводил западным женщинам гораздо более почетную роль и наделял их неизмеримо бо́льшим достоинством. Кроме того, моногамия уберегала от политической нестабильности, источник которой не иссякал в восточных странах: ведь при дворах христианских владык не существовало гаремных интриг – этих смертельных (в буквальном смысле слова) распрей и состязаний между сторонниками жен-соперниц. И все же Османская империя с ее строем просуществовала очень долго. Отчасти это можно объяснить тем, что существование гарема позволяло ей уберечься от слабости, присущей любой моногамной западной монархии, где единственным законным наследником престола считался отпрыск короля и королевы. Если королевской чете не удавалось произвести на свет ребенка мужского пола, то престолонаследие оказывалось под угрозой. В Османской империи, напротив, наблюдалась непрерывная линия наследования на протяжении тридцати шести поколений султанов. Одной из причин такой непрерывной преемственности было то, что законным наследником признавался любой из детей султана – а большинство детей рождалось не от жен, а от наложниц, – причем одной из самых влиятельных фигур в государстве, султаншей-матерью, становилась наложница.
Турецкий гарем на протяжении столетий очаровывал европейцев, дразнил их воображение, вдохновлял на создание художественных произведений, где с упоением изображался альтернативный сексуальный мир. Литературные произведения, свидетельствующие об этих западных восторгах, многочисленны и отчасти повторяют друг друга, хотя различные авторы, и мужчины и женщины, стремились давать собственные описания гарема, непохожие на чужие, и каждый объявлял себя первооткрывателем истинной тайны гарема. “Я не только расскажу о том, как Султан проводит время в любовных забавах с Девами, служащими его Утехам, – писал в 1709 году Аарон Хилл, британский путешественник и драматург, – но и проведу Читателя в закрытые Покои прекрасных ДАМ СЕРАЛЯ и даже приобщу его к заповеданному Великолепию Опочивален, а также нарисую перед ним разнообразные Сцены Любви и Ухаживаний, каковые ежедневно разыгрываются между ними и их Господином, вплоть до конечного Утоления их страстных Желаний”.
Хилл был богатым, эксцентричным, высокомерным и назойливым англичанином, который, будучи совсем еще юношей, совершил путешествие по Ближнему Востоку, а в 1709 году выпустил книгу, название которой почти в точности повторяло название книги Райкота, только сделалось чуть пышнее: “Полное и справедливое донесение о нынешнем состоянии Османской империи”. В отличие от Райкота Хилл утверждал, будто лично посетил сераль в отсутствие самого султана. Такое утверждение – если вспомнить об угрозе смертной казни, которая ждала любого мужчину, не считая самого султана и его евнухов, кто увидел бы, пусть даже случайно, хоть одну из обитательниц сераля, – скорее всего, было пустым вымыслом. Тем не менее Хилл ссылался на свое якобы близкое знакомство с султанским гаремом, заявлял, будто его книга более достоверна, чем книга Райкота, – например, назвав рассказ Райкота о платке “ошибочным”. Это положило начало спору вокруг данной подробности, длившемуся целые столетия, – спору такому же захватывающему и неиссякаемому, как оживлявшие заседания Королевского географического общества споры по поводу истоков Нила или существования Северо-Западного прохода. Позднее Хилл вел переписку с Александром Поупом, издавал стоившую два пенни газетку “Суфлер”, освещавшую новости лондонских театров, и считался заметной фигурой в литературном мире, если судить по тому, что после смерти в 1750 году его удостоили погребения в Вестминстерском аббатстве.
Словом, Хилл, как и Райкот, пользовался доверием. Он воссоздал для своих английских читателей чудесный, подробно описанный мир, изобиловавший всяческими “тропинками любви” и “лабиринтами наслаждений”, которые должны были служить отличным подспорьем для ночных фантазий множества молодых – и не столь молодых – мужчин. Опять-таки все сочинения подобного рода выявляют однонаправленность трансконтинентального эротического интереса. Моцарт, Расин, Монтескье, Байрон, Пуччини и даже Гилберт с Салливаном сочиняли оперы, пьесы, пародии, эпические поэмы и мюзиклы, вдохновляясь образом гарема, однако трудно (или вовсе невозможно) было бы обнаружить какие-либо турецкие произведения, где действие разворачивалось бы (ради комического или назидательного эффекта или просто ради экзотики) в Версале или в Сент-Джеймсском дворце. У Генриха VIII, современника Сулеймана Великолепного, и у Людовика XIV, жившего столетием позже, во времена Мехмеда IV (чьей матерью была русская наложница султана Ибрагима Безумного), были знаменитые любовницы, и историки много писали о них. Непохоже, чтобы турецкие резиденты, жившие в Лондоне и Париже в эпоху Сулеймана или Мехмеда, создавали яркие описания европейских будуаров, чтобы удовлетворить любопытство своих соотечественников на родине, зато интерес Запада к гарему, доходящий до наваждения, породил особую литературу, история которой насчитывает века.
Через несколько лет после появления книги Хилла, во втором десятилетии XVIII века, в “клуб разоблачителей гаремных тайн” вступила леди Мэри Уортли Монтегю, жена британского посла в Стамбуле. Она заявила, что, будучи женщиной, пользовалась такими возможностями, о каких не мог мечтать ни один мужчина. Хотя пребывание леди Монтегю в Турции и ее путешествия по Османской империи относятся приблизительно к 1717 году, ее книга “Письма из турецкого посольства”, написанная в эпистолярном жанре, в виде собрания личных писем, адресованных близким подругам, увидела свет лишь в 1763 году, уже после ее смерти. Заявленная цель этого сочинения носила научный характер: она должна была развеять прежние заблуждения и исправить “лживые сведения”, содержавшиеся в описаниях других авторов, однако в итоге книга Монтегю еще больше разожгла коллективный эротический интерес Запада к Востоку. Энгр переписывал большие куски этих писем к себе в записные книжки. Таким образом, хотя письма Монтегю не являлись чем-то исключительным в литературном отношении, они тем не менее своими описаниями эротического, экзотического мира Востока вдохновляли на создание шедевров.
Леди Монтегю высказывалась и о том, что эротическая культура Османской империи не настолько отличается от культуры, бытующей в христианской Европе, как полагали другие. Например, она скептически относилась к утверждению, что турки не только вправе иметь четырех жен, но и в самом деле их имеют и что якобы они пренебрегают желаниями своих жен, заводя сколько угодно любовниц. “Когда муж проявляет непостоянство (что порой случается), он поселяет свою любовницу в отдельном доме и навещает ее с соблюдением всяческих предосторожностей – точно так же, как делаете это вы”, – пишет она в одном из писем.
Монтегю называла “сказочным вымыслом” платок, якобы бросаемый султаном наложнице, которую он выбрал на ближайшую ночь. Выдумкой, по ее мнению, были и истории о том, будто девушка, вызванная для ночных утех, тайком пробиралась в спальню к султану. И все же она изобразила мир женской красоты, выставленной напоказ в таком заведении, какое не могло бы существовать ни в одной христианской стране. В эпизоде, переписанном Энгром, она упоминала о “прекрасной девице лет семнадцати в самых богатых одеяниях и в блеске драгоценных украшений, которая ныне представала взорам… в своей первородной наготе”.
Эта сцена из описания Монтегю (в действительности описывалась часть свадебного обряда) не выходила за рамки благопристойности. Здесь не шла речь ни о сексуальном рабстве, ни даже о сексе. Монтегю сетовала на “чрезмерную глупость” своих предшественников, которые изображали турчанок жалкими затворницами. По ее мнению, они, напротив, были “единственными в мире женщинами, которые живут в непрерывных удовольствиях, не ведая никаких забот, ибо проводят все свое время в купаньях или каких-нибудь приятных развлечениях, например, тратят деньги или изобретают новые модные наряды”. По мнению Монтегю (которое разительно отличалось от современного западного взгляда на этот вопрос), чадра отнюдь не являлась знаком порабощения, а, напротив, способствовала большей свободе, так как этот “постоянный маскарад” позволял женщинам ходить “куда вздумается” под покровом полной анонимности. “Нетрудно догадаться, что количество верных жен весьма невелико”, – замечает она в одном из писем.
Леди Монтегю, переписывавшаяся с некоторыми виднейшими поборницами прав женщин своей эпохи, и сама завела скандальную любовную связь после возвращения на родину из Стамбула, так что, возможно, изображая турчанок свободными женщинами, не обремененными повседневными заботами, она отчасти выдавала желаемое за действительное. Ее отец, граф, пренебрег желанием дочери выйти замуж за своего давнего поклонника, Эдварда Уортли Монтегю, и начал сватать ее за другого. Однако Мэри нарушила планы отца, уже устроившего ее помолвку с нелюбимым мужчиной, и сбежала вместе с Монтегю. Такой поступок, конечно же, свидетельствовал о ее весьма независимом характере, хотя, если судить по ее же письмам из Османской империи, она почему-то не желала задуматься о том, что и турчанки из знатных семейств, которым она приписывала полную свободу, возможно, бывают скованы такими обязательствами, как устроенное родителями замужество. Кроме того, леди Монтегю слыла сплетницей и довольно небрежно обходилась с фактами. Впоследствии, сделавшись мишенью для насмешек и презрительного отношения общества, она провела значительную часть жизни в Италии, в добровольном изгнании (к тому времени они с Эдвардом Уортли Монтегю уже расстались).
Иными словами, она была довольно сложной и трагической фигурой, эта английская аристократка и протофеминистка, считавшая жизнь в гареме вольной, а чадру освобождающей. И, подобно тому как она обвиняла других авторов, писавших о гареме, в незнании темы, позже саму леди Монтегю обвиняли в том же грехе несколько других писательниц, тоже избравших предметом своего исследования гарем. Например, писательница начала XIX века Джулия Пардоу, посетившая бани, где леди Монтегю некогда увидела лишь алебастровую наготу, не заметила “никаких признаков того ненужного и распутного обнажения”, о котором поведала леди Монтегю. Возможно, рассуждала Пардоу, леди Монтегю присутствовала “на какой-нибудь особенной церемонии, а может быть, с тех пор турецкие дамы сделались более утонченными и более благопристойными в своем поведении”. В середине того же века Эммелин Лотт, служившая гувернанткой в восточных гаремах и благодаря такой должности “имевшая доступ к запретным “Обителям Блаженства”, оставила собственное описание сераля, где между прочим заявила, что леди Монтегю, скорее всего, вовсе не наблюдала “повседневную жизнь одалисок”.
Литературное соперничество продолжалось: писательницы словно состязались между собой, и каждая стремилась подкрепить свое заявление, будто именно ей наконец-то удалось выведать истинную тайну происходящего внутри гарема, новыми подробностями. Но все эти женщины, спорившие друг с другом из-за толкования отдельных фактов, в основном соглашались с леди Монтегю, видя в гареме скорее территорию женской свободы и разных возможностей, чем тюремную зону, где женщины влачат рабское существование.
Одна из таких писательниц, Элизабет Крейвен – очередная аристократка, побывавшая в Стамбуле приблизительно поколением позже выхода в свет “Писем…” леди Монтегю, – завидовала турчанкам, потому что, по ее мнению, они “превосходно защищены от досужих любопытных взглядов праздной и нахальной публики”. Гарем оберегал их частную жизнь и даже сексуальную свободу. И если раньше фетишем европейского воображения служил пресловутый султанский платок, то женщины, писавшие о серале и отмахивавшиеся от этого платка как от вымысла, сами превратили в похожий фетиш тапочки турчанок. Крейвен писала, что если муж видит тапочки перед дверью своего гарема, то не входит туда: такой обычай, поясняла она, служит своего рода защитой для любовников женщины. Джулия Пардоу тоже не обошла вниманием тапочки, но только, как заметила исследовательница Рут Бернард Йизелл, и она, и другие писательницы-путешественницы “связывали с ними не сексуальную свободу, а свободу от секса – во всяком случае, от “секса по требованию”, – о чем явно не ведали у них на родине”. В сознании викторианских женщин гарем почти целиком преобразился: из “резервации”, созданной для обслуживания сексуальных прихотей султана, это место превратилось в нечто вроде убежища, безопасного и надежного укрытия для гаремных женщин.
Но если женщины писали книги и спорили между собой, то позднее именно мужчины стали ездить на Восток, чтобы становиться там маленькими султанами и держать собственные маленькие гаремы. Поэтому в западном сознании все-таки возобладало представление о гареме как о месте, таившем безграничные эротические возможности. На Востоке, как, несомненно, заметили западные мужчины, не только материальный успех становился залогом большей сексуальной свободы, но и сама эта свобода не требовала любви как таковой. В гареме женщины, отобранные за свою красоту и чистоту, держались в заточении, чтобы могущественные мужчины могли в любой момент удовлетворять с ними похоть. Для европейцев это было весьма примечательным явлением. Мы не станем вспоминать об агентах спецслужб, отворачивавшихся, когда в Белый дом проникала очередная любовница Джона Ф. Кеннеди, или о потайной двери, которую всегда тайком держали открытой, чтобы через нее во дворец впускали на ночь (а наутро снова выпускали) незаконных сожительниц какого-нибудь короля. Все-таки на Западе внебрачные связи президента или короля требовали тайного сговора со стороны ближайшего окружения правителя. А вот на Востоке внебрачный секс не окутывался ни малейшим покровом тайны. Культура гарема требовала содержания многочисленного аппарата чиновников, обязанности которых сводились лишь к набору и содержанию сотен женщин, которые должны были услаждать верховного правителя, сам же он нисколько не был отягощен узами верности какой-либо женщине, тем более собственной жене. Разумеется, мудрость гласит, что величайшее сексуальное наслаждение мужчина может обрести лишь в здоровом моногамном и полном любви союзе с одной женщиной. В этом смысле моногамия – многообещающее явление. Это ведь не просто сексуальный, это еще и эмоциональный союз. И все-таки будем смотреть правде в глаза: люди часто живут, не слушая никаких премудростей. А потому многим западным мужчинам гарем представлялся неким альтернативным миром, свободным от обременительных (по их мнению) уз моногамии, от скучной необходимости ограничиваться всего одной женщиной, – миром, сулившим сексуальное разнообразие и изобилие девушек, вечно сохранявших юность, в то время как мужья и жены неизбежно стареют.
Мечта о таком альтернативном эротическом мире и являлась, без сомнения, одним из объяснений западной одержимости идеей гарема и его пресловутыми тайнами. Но гарем вызывал у Запада и еще одно острое желание: желание узнать то, что знать якобы запрещалось. Подобно множеству женщин в разных уголках колонизованного мира, фигурировавших в рассказах путешественников и на полотнах художников, сам гарем словно прятался под чадрой, и желание сорвать этот покров и увидеть то, что за ним, жгло Европу в течение долгих веков.
Таким образом, чадра была вызовом, а способность заглянуть под нее – главным опознавательным знаком власти и престижа, ведь в рассказах Райкота и других один только султан имел на это право. Французский поэт-романтик Жерар де Нерваль, написавший “Путешествие на Восток”, выбрал фокусом своего внимания не Турцию, а другую левантийскую страну, которая тоже долгое время вызывала стойкий интерес у европейских путешественников, начиная с Гюстава Флобера и заканчивая Лоренсом Дарреллом, а именно Египет. Пожалуй, сегодня многим жителям Запада Египет представляется лишенной всякого эротического ореола страной, где царит политическая диктатура и нищета, где полно уличных попрошаек и назойливых зазывал. Но для Нерваля, как и для Флобера, Египет еще был краем дразнящей чувственности, “страной загадок и тайн”, которая одновременно и обескураживала путешественника, и побуждала его “приподнять краешек сурового покрывала”.
Нерваль оставил заманчивое описание египтянок, точнее того немногого, что они позволяли увидеть: “Прекрасные пальчики, унизанные кольцами-талисманами, запястья в серебряных браслетах, а то и точеная, словно из мрамора, рука выглядывают из-под широких, поднятых до плеч рукавов; браслеты на щиколотках серебристо позвякивают, и при каждом шаге слетают с ног бабуши [восточные тапочки]; этим можно любоваться, это можно угадать или подсмотреть, не вызывая недовольства толпы и, кажется, не привлекая внимания самой женщины”.[11]
Восток, как выразился один ученый, вызывал “эротическую потребность видеть за покровом воображаемую наготу”. Это отражало, писал он дальше, “и самое буквальное стремление срывать покровы с восточных женщин, чтобы удовлетворить вуайеристское желание увидеть их скрытые тела”. Ключом к этому оставалась власть – властное право приподнимать покров, раскрывать уже не очень-то тайную тайну, которая успела породить среди европейцев три особых вида деятельности. Во-первых, они занялись написанием книг о гареме (например, Райкот, Хилл и Монтегю), состязаясь между собой, кто раскроет больше секретов, касающихся потаенной гаремной жизни. Во-вторых, появилось нечто вроде сексуального туризма – и, как мы увидим, не кто иной, как Флобер, стал одним из пионеров такого времяпрепровождения, которому в различных формах предавались на протяжении двух веков мужчины из Европы и Америки, исследовавшие эротические возможности, доступные на Востоке и совершенно немыслимые на Западе. А в-третьих, они начали применять силу, чтобы пользоваться этими возможностями. Колониализм и военные победы довершили дело. Привлекательность скрытого под чадрой Востока соединилась с мощью колониальных завоеваний, и то, что зарождалось в виде чистой фантазии, сделалось повседневной реальностью, приобретая в последнее время самые массовые и вульгарные формы.
Отступление третье
Осуществление фантазий
Около 1812 года британский карикатурист Томас Роулендсон опубликовал порнографический рисунок под названием “Гарем”, изображавший сказочный мир, каким рисовалось это специфическое османское заведение в западном воображении. Роулендсон, родившийся в 1756 году, сам никогда не бывал в странах Леванта, а потому его рисунок отражал не реалии гарема, а скорее сложившуюся “репутацию” и воплощал на бумаге “мечту о беспредельных возможностях, которая одушевляет фантазии множества мужчин о Востоке”, как выразилась Рут Бернард Йизелл. На рисунке изображен мужчина в тюрбане, очевидно султан, перед которым двумя ярусами, уходящими до самого края рисунка и далее до бесконечности, выстроились обнаженные женщины, все как одна в соблазнительно-призывных позах.
Единственный одетый человек на этом кишащем телами рисунке – сам султан, сидящий на коврике под балдахином, с изящным резным кувшином и чашей под боком. На султане тюрбан и роскошный халат, и халат этот распахнут спереди, являя и зрителю, рассматривающему рисунок, и женщинам, изображенным на рисунке, возбужденный султанский член. Пенис султана почти напоминает “волшебный прут” – орудие, призванное помочь ему с выбором, разгадать сложную головоломку. А это поистине головоломка, ведь изображенные женщины до того похожи одна на другую, что, в трактовке Роулендсона, безграничное количество женщин в действительности отнюдь не предоставляет выбора. “Как будто альтернатива моногамии – это и в самом деле не ведающее предела удовлетворение; и тела́, и наслаждения умножаются до бесконечности в воображаемых гаремах”, – писала Йизелл о рисунке Роулендсона. Подобно гаремам Энгра, Моцарта и Байрона гарем Роулендсона – чистый вымысел, фантазия на тему эротической свободы, существующей где-то в чужих краях. Художник и не ожидал, что в его рисунке будут искать правду.
Но в известном узком переулке в Бангкоке, метрах в ста от одной из широких торговых улиц этого города, находится гарем другого рода, и уж он-то, несомненно, реален, все в нем происходит здесь и сейчас, и возможно тут абсолютно все. Неоновая вывеска у входа сообщает, что это массажный салон “Баловник”. Это одно из множества подобных заведений в Бангкоке, и хотя во времена Роулендсона ныне знаменитого торгового эротического центра не существовало, карикатурист идеально предвосхитил его устройство. Массажный салон “Баловник”, как можно узнать на многочисленных сайтах, предоставляющих информацию о нем, открыт ежедневно с трех часов дня до полуночи. Входя туда, мужчины попадают в нечто вроде фойе и смотрят оттуда на женщин, сидящих за чуть затемненным стеклом на расставленных ярусами деревянных скамейках, будто в круглом аквариуме для золотых рыбок. На женщинах прозрачные светлые одежды. Хотя некоторые из них юны и красивы, о большинстве этого не скажешь. Им видны мужчины, разглядывающие их, и они пытаются встретиться с ними взглядом, чтобы залучить клиента, – подобно описанным Райкотом девицам, принимающим “распутные позы”, чтобы завладеть вниманием “Великого Правителя”.
Менеджер заведения рассказывает посетителям, на какой услуге специализируется та или иная женщина. Он сообщает им, кто занимается оральным сексом, а кто обычным, и уговаривает клиентов брать сразу по две девушки, чтобы попробовать понемножку и того и другого и оказаться посередине своеобразного восточного “сэндвича”: одна девушка будет сверху, другая снизу, и обе – в мыльной пене с теплой водой. Какой бы выбор ни сделал клиент, его купают в ванне, затем делают небольшой массаж, а потом, после недолгих переговоров, ему позволяют так называемый счастливый конец, цена на которую зависит от выбранной разновидности.
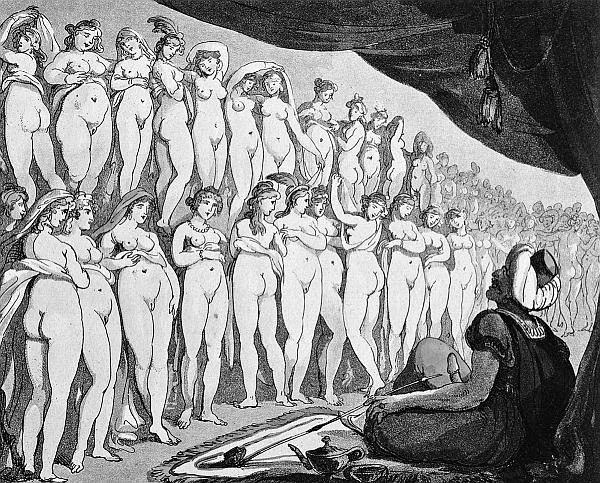
Томас Роулендсон. “Гарем”. Ок. 1812.
Массажный салон “Баловник” – одно из множества подобных заведений в Бангкоке, оно не принадлежит к числу самых роскошных, богатых или популярных. Говорят, что больше других славится заведение “Посейдон”, расположенное по адресу Ратчадаписек-роуд, 209, где, как сообщается на веб-сайте салона, есть женщины трех категорий: аквариумные, дополнительные (те, что сидят за пределами “аквариума”) и модели, общение с которыми стоит от семидесяти до ста восьмидесяти долларов за полтора часа, причем чем красивее массажистка, тем выше цена, а счастливый конец оплачивается отдельно. Другие подобные заведения носят названия “У Цезаря”, “Мираж”, “Новая Клеопатра” и “Тайна Виктории”, и все они воплощают в жизнь фантазии Роулендсона. Это настоящие гаремы, доступные любому мужчине. В них можно запросто осуществить фантазии, которые много веков назад преследовали читателей Лодовико Вартемы и Пола Райкота, в них жизнь султана вывернута своего рода “демократической изнанкой” наружу.
Глава 5
Вечная мечта о Клеопатре
Подобно океану эта река отправляет наши мысли вспять на почти неизмеримые расстояния, туда, где вечная мечта о Клеопатре, где великая память о солнце, золотом солнце фараонов.
В 1850 году молодой Гюстав Флобер писал Луи Буйе, своему приятелю в Круассе (Нормандия), о том, как увидел Красное море в Коссейре (современном Кусейре) – египетском портовом городе, где караваны паломников-мусульман “садятся на корабли, идущие в Джидду, откуда всего три дня пути до Мекки”. Кусейр нельзя причислить к тем местам, что воспламеняли воображение Флобера, которое особенно легко воспламенялось в течение тех полутора лет, что он провел на Ближнем Востоке, в 1849–1851 годы. И все же он записал для Буйе, что заметил в толпе паломников “целый гарем под покрывалами, который застрекотал на нас, как стая сорок, когда мы проходили мимо”. А еще в Кусейре Флобер ненадолго погрузился в чувственные удовольствия. Он поплавал в Красном море и сообщил Буйе: “Это было одно из самых сладостных удовольствий в моей жизни, я скользил по водам моря, словно возлежа на множестве жидких женских грудей, которые ласкали мое тело”.
Флобер, наверное, не знал, что за два года до него на египетских берегах Красного моря останавливался другой европейский путешественник, Ричард Бёртон, и отплыл-таки оттуда в Аравию и Мекку, чтобы совершить путешествие, которое впоследствии принесло ему громкую славу. В каком-то смысле Бёртон был противоположностью Флобера. Он являл собой платоновский идеал неутомимого исследователя внешнего мира, искателя опасностей. Флобер по-своему тоже искал опасностей, но, если не считать его путешествия в Египет (и более поздней поездки в Ливию на несколько недель), он оставался домоседом и исследовал психологические и нравственные закоулки внутреннего мира человека, задавшись целью показать его жалкую слабость и смехотворность любых его предприятий. Если Бёртон всякий раз испытывал нетерпение, оказываясь на родине, в Англии, и вечно вынашивал планы очередной трудной экспедиции в Азию или Африку, то Флобер, сенсуалист в частной жизни и реалист в общественно-литературной, вполне довольствовался оседлым существованием на родине, во Франции, где жил вместе с матерью в сельском доме на берегу Сены и создавал шедевры французской словесности. Известно его высказывание: “Веди размеренную и упорядоченную жизнь, чтобы быть яростным и самобытным в творчестве”. Бёртон – британский солдат, выдающийся полиглот и, возможно, величайший исследователь-первооткрыватель XIX века – был прежде всего человеком дела, он прославился решительными и беспощадными поступками и выдающейся личной отвагой. В его жизни было столько же ярости, сколько упорядоченности в жизни Флобера, и, хотя литературный гений Бёртона несопоставим с флоберовским, он проявил себя талантливым, взыскательным и самобытным хроникером собственных приключений и бытописателем чужих краев.
У них имелось еще много общего, и не в последнюю очередь – то, что оба были необузданными сластолюбцами и посещали проституток повсюду, где бы ни оказывались, и к тому же почти всю жизнь страдали венерическими заболеваниями, которые подцепляли в каких-нибудь экзотических сексуальных похождениях. Кроме того, оба отличались дотошным вниманием к фактам, к восприятию мира таким, каков он есть, во всех его великолепных и сочных подробностях, а не таким, каким предпочитали видеть мир романтики или, хуже того, сентименталисты той эпохи. Оба были самобытными мыслителями, не терпевшими штампов – особенно штампов мышления, или “прописных истин”, по знаменитому выражению Флобера. И оба побывали в “странах Восхода” (где Бёртон, конечно же, пробыл гораздо дольше, чем Флобер) и воспользовались теми эротическими возможностями, которые предлагал Восток.
Литературовед Эдвард Вади Саид, автор очень влиятельной книги “Ориентализм”, считал, что оба они служили примером того, что сам он называл ориенталистским заблуждением: они не столько видели реальность Востока, сколько подкрепляли имевшиеся предрассудки, возникшие под влиянием уже прочитанного, и воспринимали шаблонную экзотику, ставшую непременным атрибутом империалистской экспансии. Мы еще убедимся, что такой взгляд одновременно и проницателен, и близорук. Однако Саид был прав, когда заметил, что Флобер и Бёртон демонстрировали “отчетливую ассоциацию между Востоком и свободой распущенного секса”.[12] “Фактически ни один из европейских писателей, писавших о Востоке или путешествовавших там в период после 1800 года, не избежал подобных поисков”, – писал Саид. Разница в том, что для Саида эта связь была всего лишь частью стереотипа, при помощи которого Запад и воспринимал, и принижал Восток, а для Флобера и Бёртона свобода аморального секса являлась вовсе не фантазией и не стереотипом, а самой настоящей правдой жизни.
Что делает особенно ценным подобный опыт Флобера и Бёртона, так это их откровенные описания собственных похождений. Оба они любили проституток – и на родине, и на чужбине – и беззастенчиво в этом сознавались. Один из биографов Флобера, Фрэнсис Стигмюллер, составивший сборник из его египетских писем и путевых заметок, цитировал там самого Флобера: “Возможно, это признак извращенного вкуса… но я люблю проституцию как таковую, а не только приносимые ею плотские радости… Само явление проституции сводит воедино столько разных элементов – похоть, горечь, полную человеческую разобщенность, мускульное бешенство, звяканье монет, – что, всматриваясь в него пристально, поневоле содрогаешься”.
Бёртон и Флобер, которые никогда в жизни не встречались и никогда не упоминали друг друга в каких-либо своих сочинениях, сообща отлично демонстрируют пересечение путей, что неудивительно, потому что тысячи гораздо менее известных людей тоже оказывались на тех же самых путях. Оба служат яркими примерами западной зачарованности Востоком – не только краем грез и фантазий о гареме, но и реальным местом, где разрешены чувственные удовольствия и где мужчина способен испытать то, что немыслимо дома. Оба прославляли эротический Восток и словом и делом. Оба (Флобер, возможно, сам того не замечая, Бёртон – более осознанно) выявляли связь между властью и сексуальными привилегиями, характерную для эпохи империализма и в значительной степени для последовавшей за ней эпохи, длящейся до сих пор. Богатство и власть сами по себе являлись целями, к которым стремились многие, но так совпало, что богатство и власть обеспечивали множеством девушек (и мальчиков) солдат, путешественников, писателей и всякого рода авантюристов, которые воплощали оба эти качества в колонизованных или попавших в иную зависимость уголках планеты.
Поскольку у Флобера имелся богатый опыт общения с проститутками в Париже, где в них не было недостатка, что же его привлекало на Востоке? Какие неведомые на родине возможности таил Египет? Ясно, что речь шла не просто о сексе как таковом. “Следующие два дня я провел в роскоши: обильные обеды, много вина, шлюхи”, – сообщает Флобер в своем путевом блокноте 22 октября 1849 года, накануне египетской экспедиции. Но писал он о двух днях, проведенных в Париже и отчасти мучительных из-за разлуки с матерью, с которой он расстался в дядином доме в Нормандии за несколько дней до того. В Париже он жил у своего друга и попутчика Максима Дюкана, который до выхода в свет “Госпожи Бовари” (семью годами позже) являлся гораздо более известной во французских литературных кругах фигурой, чем Флобер. Действительно, в ту пору Флобер еще почти не публиковал сколько-нибудь значительных произведений. В 1849 году ему было двадцать восемь лет, он был, по словам Стигмюллера, “мускулистым светловолосым “викингом” ростом почти шесть футов”. Его отец, хирург, умер четырьмя годами ранее и оставил семье достаточно денег, чтобы сын мог путешествовать и предаваться литературным занятиям, не имея необходимости трудиться ради пропитания.
Он был молодым честолюбивым сенсуалистом и располагал средствами к вольготной жизни, частенько писал до поздней ночи, а завтракал вдвоем с матерью около полудня. Дюкан, почти ровесник Флобера, был богаче его. Это он подбил домоседа Гюстава поехать с ним в Египет, а потом они собирались побывать еще в Палестине, Греции и Персии (хотя в итоге персидская часть путешествия была отменена). Флобер читал классическую литературу, полную романтических и экзотических образов Востока: Байрона, Виктора Гюго и “Тысячу и одну ночь” (хотя и не в прославленном переводе Ричарда Бёртона – до его выхода в свет оставались десятилетия). “О, сколь охотно я отдал бы всех женщин на свете, лишь бы обладать мумией Клеопатры!” – вот пример его настроений, которые Стигмюллер называл “юношеским ориентальным угаром”. Вдобавок Флобер был одержим культом Античности, что довольно часто случалось с молодыми англичанами и французами в XIX веке. Увидев изваяние Сфинкса, которое в ту пору было гораздо более редким и потому неизмеримо более диковинным зрелищем, чем сегодня, Флобер едва не лишился чувств от приступа ностальгии по исчезнувшим красотам прошлого. “Я опасаюсь головокружения и силюсь совладать с чувствами”, – записал он в дневнике, а позже, в письме закадычному другу Буйе, заявил: “Столь “по-э-тические” впечатления, слава богу, бывают не каждый день, иначе лопнул бы бедный человек”.
Флобер полюбил Восток еще до того, как впервые оказался там, и в этом смысле он иллюстрирует теорию Саида и некоторых других авторов-ориенталистов. По их мнению, Флобер и большинство путешественников эпохи европейского романтизма “были особенно подвержены таким галлюцинациям памяти, что им казалось, будто они не столько видят Восток впервые, сколько припоминают его, видят заново благодаря ожившим образам прошлого”. Именно так оно и было, хотя Флобер, несмотря на страстную тягу к экзотике, едва не отказался от поездки, настолько огорчала его разлука с матерью и мысль о том, как она будет страдать в его отсутствие. Покидая Круассе, где осталась мать, он утирал слезы носовым платком, а когда приехал в Париж, продолжал мучиться и часами спорить с Дюканом, пока наконец твердо не решил, что все-таки поедет с ним. И состоялся последний ужин в Париже, когда Флобер, как сообщал он в письме Буйе, “кусал кончик сигары, после того как мы дали себе слово вспомнить о нем, если когда-нибудь нам суждено будет оказаться вблизи останков Клеопатры”. А достигнув места назначения (вначале поездом, дилижансом, пароходом по Роне от Парижа до Марселя, а затем пароходом “Нил”, где прошло “одиннадцать дней в качке и тряске, на ветру и бурных волнах”), Флобер принялся медленно осваивать Восток, старательно подмечая подробности и в то же время не забывая о Клеопатре, которая как бы служила связующим звеном между его интересом к древностям и его чувственным аппетитом. В Египте его ожидал мир зноя и ярких красок, привилегий и пыли, разрухи и болезней, отчаяния и музыки, эротики и секса – и все это значительно перевешивало любые парижские впечатления.
Вот в этом-то все и дело. Если проституция привлекала Флобера как некое сказочное пересечение низменного и возвышенного (а Флобер особенно любил низменное), то Египет манил его тем же. “Психологическое, человеческое, забавное попадается в изобилии” – так подытоживал Флобер увиденное в письме Буйе из Стамбула в 1851 году, несколько месяцев спустя после отъезда из Египта. “Встречаешь штучки блистательные, картины жизни, переливающиеся всеми красками, чарующие на взгляд, совмещающие в себе лоскутья и вышивки, все в грязных пятнах, дырах и позументах. А по существу – все та же давняя подлость [canaillerie], неколебимая, нерушимая… Ах, до чего она бросается в глаза!”[13] Египет предлагал зрелище, которое Флобер находил “лихорадочным и пьянящим”. Среди прочего он предлагал вести жизнь, подобную жизни султана, паши, шейха или какого-нибудь еще восточного владыки – жизнь некоего завоевателя, только безоружного, идущего по следам Наполеона (который завоевал Египет в 1798 году якобы для того, чтобы освободить страну от османского ига) и получающего власть и почет лишь из-за того, что он иностранец. “Просто невероятно, до чего хорошо с нами здесь обходятся – словно мы какие-нибудь принцы, я не шучу”, – писал Флобер матери. А позже – уже Буйе: “Паша в Розетте устроил нам обед, где нам прислуживали десять негров; на них были шелковые куртки, а на некоторых – серебряные браслеты; а маленький негритенок отгонял от нас мух чем-то вроде метелки, только не из перьев, а из тростника”. И снова в письме матери, которая тревожилась за его жизнь, он удивлялся, какой властью пользуются тут западные путешественники, “какое почтение или, скорее, благоговейный ужас выказывают все при появлении “франков”, как здесь называют европейцев. Бывало, перед нами шла группа из десяти – двенадцати арабов, перегораживая всю улицу, – и все они расступались в стороны, чтобы дать нам пройти”.
Не следует недооценивать этого явления в частной жизни вполне рядовых и, разумеется, не облеченных никакой властью европейцев, которые путешествовали по Востоку, от Алжира до Китая, или некоторое время жили там, – этого преимущества, которое было блеском отраженной славы, отголоском громких военных побед, одержанных войсками их стран. Когда полвека назад Наполеон захватил Египет, то в сражении погибло около шести тысяч мамлюков и всего триста французских солдат. Флобер, упоминавший о тысяче жидких женских грудей Красного моря, явно уподобляет Восток женщине – уже ввиду физических особенностей, чувственного тепла и плодородия здешней земли. Но эротика ощущается еще и потому, что здешнее общество само предлагало множество сексуальных услуг, причем порой в таких раболепно-угодливых формах, что странно, как сам Флобер не замечал в них ничего уродливого и печального. Флобер весело рассказывал, как встретил “мальчика лет шести или семи и двух босоногих девочек в синих платьях, возле которых лежали на земле их шерстяные остроконечные шапочки… Мальчишка был превосходен – уродливый, коренастый, крепкий: “Если дадите мне пять пара (монет), я приведу вам свою мать, чтоб вы с ней переспали. Желаю вам всяческих благ, особенно длинного члена”. Среди множества предлагавшихся удовольствий, о которых он неоднократно писал Буйе, были и доступные бардаши, или катамиты, – мальчики, вступавшие в половые отношения с мужчинами. Возможно, в этом Флоберу виделось (хотя сам он об этом не говорил) некое воскрешение древнегреческих нравов. “Такие вещи обычно происходит в банях, – сообщал Флобер в одном из писем. – Заказываешь для себя баню (пять франков, включая массаж, трубку, кофе, простыню и полотенце), а затем пронзаешь своего мальчишку в одной из комнаток. Знай же, что все мальчики при банях – бардаши”.
Иными словами, именно это и предлагал Восток гостям с Запада, и тут сложно сказать – особенно о Флобере, блестящем и оригинальном наблюдателе, – что увиденное им было всего лишь “припоминанием” ранее прочитанного. То, что он видел, к чему прикасался, было реальным и описывалось Флобером (как и его английским “коллегой” Бёртоном) с точностью и яркостью, достойными автора “Госпожи Бовари”. Он видел и обонял все – “покатую и каменистую местность”, “большие плиты песчаника, будто покрытые лаком коричнево-охристого цвета”, “арабские лодки с чересчур большими кормами”, “ужасный запах мыла и тухлых яиц”, молодого евнуха “с непокрытой головой, курчавыми волосами, с маленьким кинжалом, заткнутым за кушак, с голыми руками, с толстым серебряным кольцом на пальце, в остроносых красных туфлях”, “рыжеволосую девочку с широким лбом, огромными глазами, с широкими ноздрями довольно плоского носа, со странным лицом, мечтательным и оживленным”, ловцов жемчуга, которые отправляются на промысел по двое в лодке – “один гребет, второй ныряет”, а после возвращения у ныряльщика “идет кровь из ушей, ноздрей и глаз”, лодки работорговцев, которые вытаскивают на берег Красного моря, и самих рабов, “идущих группами по пятнадцать – двадцать человек, а к каждой группе приставлено по два надсмотрщика”, “белый птичий помет”, который “стекает струями” по безупречному (в остальном) обелиску в Луксоре и “облепляет его основание, будто застывшее гипсовое месиво”. (“Выбитые надписи и птичий помет – единственные признаки жизни среди египетских развалин”, – писал он Буйе.)
И, как всегда у Флобера, мы видим намеренное и нарочито антиромантичное смакование сомнительных и даже отвратительных подробностей, прагматизм и скептицизм, ощущение бесполезности и глупости окружающего – словом, такое отношение, какое и подобает человеку, который однажды сказал, что “мечта демократа – поднять пролетария до уровня глупости буржуа”. Его раздражало, что Дюкан, для которого главной целью поездки в Египет было применение к древним местам новой науки – фотографии, заставляет его посещать множество египетских храмов. Флобер признавался: они “нагоняют на меня страшную скуку”. Он оставил намеренно сухое описание наказания ударами палками, причем намеренное отсутствие каких-либо эмоций усиливает эффект жестокости и чувственности: “Если человека нужно убить, то достаточно четырех-пяти ударов: ему ломают низ хребта и шею; если его нужно только наказать, тогда его бьют по ягодицам: обычно наносят четыреста – пятьсот ударов; на исцеление уходит пять или шесть месяцев – пока не отвалится истерзанное мясо… Нубийцы очень страшатся этого наказания, потому что после него невозможно ходить”. И это несентиментальное, чуждое ужаса описание сделал тот самый двадцативосьмилетний молодой человек, который несколькими месяцами ранее неутешно лил слезы при расставании с матерью. Флобер всегда сохранял немного отстраненную позицию стороннего наблюдателя – как по отношению к экзотическому миру Египта, так и по отношению к самому себе и собственному переменчивому настроению. Опять-таки в отличие от романтиков, с которыми он полемизировал в своем литературном изображении мира, в его описаниях чувствовалось глубокое, почти извращенное смакование всего порочного, сомнительного и ужасного, что попадалось ему на глаза, – как, например, в описании того мальчишки, предложившего переспать с его матерью, которого он назвал и “превосходным”, и “уродливым”. Он доложил Буйе, что наконец-то испробовал анальный секс с мальчишкой из бани, сообщив, что это был “испещренный оспинами юный негодник в тюрбане”. (Жан-Поль Сартр, написавший длинную биографию Флобера, считал, что на самом деле этого не было, но как знать? Флобер уверял, что было.) Когда Луиза Коле, любовница Флобера, ужасалась клопам, которых тот, очевидно, упоминал в более раннем послании, где описывал свидание с проституткой, то Флобер отвечал, что их “тошнотворный запах” был “самой трогательной черточкой”, тем более что он “смешивался с ароматом ее кожи, от которой пахло сандаловым деревом”. А еще была другая девушка, писал Флобер Буйе, “толстая и скользкая, на ней я получил огромное удовольствие, а пахло от нее прогорклым маслом”. А в длинном письме из Стамбула, написанном уже после Египта, Флобер сообщал Буйе, что и у него, и у Дюкана высыпали шанкры на членах (“Я подозревал, что такой подарок мне преподнесла маронитка – или, может быть, маленькая турчанка?”), и иронично замечал: “Нет ничего полезнее для здоровья, чем путешествия”.
Первые сексуальные контакты Флобера в Египте, начавшиеся в Каире в борделе “Триестина” (называвшемся так в честь Триестины – хозяйки заведения), запомнились ему не столько потому, что были приятными, сколько потому, что были странными. Он описал двух женщин из “Триестины”, не отличавшихся особой красотой: одна играла на дарабукке (литаврах), а вторая исполняла танец, который Флобер назвал александрийским. Из его кровати “пришлось убрать целый выводок котят” – такая подробность, должно быть, порадовала его как литератора. Флобер, описывавший все, что попадалось ему на глаза, описал Гадели, свою подругу на ночь, так, словно речь шла о безделушке, продававшейся на базаре: “Плотное тело, бронзовый зад, бритая промежность, поджара, хотя и полновата”. В письме, написанном Буйе вскоре после того, Флобер сообщал, что у них было “странное соитие: мы глядели друг на друга, не умея обменяться ни единым словом, и тем глубже делался обмен взглядами из-за такого любопытства и удивления”.
Более важным для Флобера оказалось посещение Кючук-Ханем – девушки, от которой пахло духами и клопами. Играли музыканты, Кючук-Ханем танцевала – и, как сказал Флобер, ее танец был “дикарским”, полным “дивных движений”, он напомнил ему росписи “древнегреческих ваз”. “На тахте в ряд сидели четыре женщины и пели”, а “светильники отбрасывали дрожащие ромбовидные тени на стены”. Он назвал по именам и двух других: Сафия Зугаира (Маленькая Софи) и Бамбе. Флобер, который раньше уже “чуть-чуть поразвлекся” с Кючук-Ханем, теперь совершил, как он сам выразился, coup[14] с Маленькой Софи (она оказалась “очень порочной и извивалась чрезвычайно сладострастно”), а потом снова совокупился с Кючук-Ханем. “Когда она заставила меня кончить, ее влагалище обнимало меня, как складки бархата. Я чувствовал себя тигром”. Флобер провел с Кючук-Ханем всю ночь, а потом хвастался Буйе: “Моя ночь была одной долгой, бесконечно напряженной фантазией – оттого я и остался там. Я думал о тех ночах, что провел в парижских борделях, – ко мне вдруг вернулась целая череда воспоминаний, – и думал о ней, о ее танце, о ее голосе: она пела мне песни, хотя я не понимал их смысла, даже не различал отдельных слов… А coups были хороши – особенно яростной была третья, а последняя – самой нежной, мы наговорили друг другу много ласковых слов; и было что-то грустное и любовное в том, как мы обнялись под конец”.
И это еще не все. В том же письме, где описывалась Кючук-Ханем, Флобер рассказывал Буйе: “Я ложился с нубийскими девушками, у которых с шеи до бедер свешивались ожерелья из золотых пиастров, а черные животы опоясывали цветные бусы, холодные на ощупь, когда трешься о них собственным животом”. Он еще раз увиделся с Кючук-Ханем и испытал “бесконечную грусть” при расставании. В Кене, писал Флобер, “я имел красивую шлюху, которой я очень понравился: на языке жестов она сказала мне, что у меня красивые глаза”. В ту самую ночь, когда он отплывал из Александрии в Бейрут, 19 июля 1850 года, он испытал приступ грусти, который кажется почти сентиментальным, особенно если вспомнить, что Флобер был крайне трезвомыслящим реалистом в изображении чувств: “Я спал, когда корабль отплыл; я так и не увидел, как египетская земля исчезает за горизонтом. Я так и не сказал ей слов прощания… Вернусь ли я туда когда-нибудь еще?”
Он больше туда не возвращался, замечает Стигмюллер. Он отправился домой и спустя шесть лет произвел на свет бессмертную “Госпожу Бовари”, где ничто не напоминает о Египте – ни место действия, ни тема, ни персонажи. Однако Египет, напоминает нам Стигмюллер, отнюдь не исчез из памяти Флобера, и даже в 1880 году, незадолго до смерти, Флобер писал племяннице, что “мечтает увидеть пальму на фоне синего неба и услышать, как аист щелкает клювом на вершине минарета”. Это была все та же стойкая западная мечта о Востоке как о крае, который Флобер называл изобилием красок, опьяняющих, ярких, ароматных, о крае, где ощущаешь такую полноту бытия и такое буйство чувств, какие немыслимы на Западе.
Глава 6
Просвещение из Индии
Все набухало нежными холмами, будто сладострастными округлостями юной негритянки.
Окруженный неминуемыми опасностями там, куда не отваживался забраться до него ни один европеец, живя “под крышей фанатичного князька, у которого с языка не сходило слово “смерть”, среди народа, ненавидящего иностранцев”, британский исследователь Ричард Фрэнсис Бёртон вполне мог бы довольствоваться единственной задачей – остаться в живых. Эмир, о котором шла речь, был абсолютным монархом Харэра – города на холме в Сомали (ныне – Хараре в Эфиопии), о котором раньше почти нигде не знали. Но в середине XIX века Харэр прославился не только как легендарный центр исламской учености, но и, подобно самой Мекке (где Бёртон уже побывал годом ранее, переодевшись афганским странником), как город, запретный для гяуров.
Харар был идеальным местом для европейца, мечтавшего раскрыть тайны Востока, – так Бёртон думал об Африке, хотя, строго говоря, ее и нельзя отнести к Востоку. Бёртон прибыл туда в 1854 году после долгого и полного опасностей похода по пустыням Восточной Африки. Почти весь путь он проделал, притворяясь арабом по имени Хаджи Мирза Абдулла, однако его все больше мучили опасения, что светлый цвет кожи выдаст его обман, и потому, оказавшись перед эмиром Харэрским, он сознался, что он британский солдат и явился “узреть свет очей Его Высочества”. А затем по привычке, свойственной этому человеку, пережившему множество грозивших смертью приключений, по мере того как протекала неделя за неделей его фактического заточения в Харэре, он не только описывал в дневниках, но и испытывал на себе чары местных женщин.
“На груди у них вытатуированы звезды, – писал Бёртон о рабынях, которые были захвачены, по-видимому, в войнах с галла, одним из самых многочисленных народов в Сомали, и с которыми он развлекался. – Брови дорисованы в длину, глаза обведены краской, ладони и ступни выкрашены хной”. Бёртон поступал с девушками галла так же, как с многими другими женщинами, которых встречал в самых разных краях, куда его заносили странствия. Прежде всего, он спал с ними – в этом можно почти не сомневаться. Но Бёртону, великолепному активному наблюдателю, этого было мало, и он описывал их во всех анатомических подробностях, в духе тех ренессансных путешественников, что живописали сказочные чудеса Востока, он тщательно описывал их странные и экзотические обычаи. В случае девушек галла это была особая эротическая техника, которую он наблюдал и в других частях Восточной Африки, особенно в Египте: речь шла о приеме, который он позже упомянул в сноске к своему переводу “Тысячи и одной ночи” и при котором “пускается в ход влагалищная мышца-сжиматель – сфинктер, которым особенно славятся абиссинские женщины”. При такой технике партнерша, называемая каббаза, что по-арабски значит “держательница”, “садится на мужчину верхом и вызывает любовный оргазм не сладострастными телодвижениями и изгибами, а тем, что сжимает и разжимает круговую мышцу влагалища, обхватывающую мужской член”. Это умение доступно любой женщине, но не все пускают его в ход. Арабские работорговцы щедро раскошеливаются на женщин, владеющих этим приемом.
Примечательно, что человек, путешествовавший по таким местам, где его соплеменникам вроде бы вообще запрещалось находиться, и не имевший возможности уехать без согласия правителя, тем не менее проводил томные послеполуденные часы в обществе местных “куртизанок”. Как доказал двумя с половиной веками ранее опыт Лодовико Вартемы, такова привилегия, которую предоставлял пленным чужеземцам из далеких стран лишь Восток. Разумеется, сексуальные исследования Бёртона составляли лишь малую часть его более обширных исследований. Он был человеком, который, выступая на протяжении многих лет первооткрывателем и агентом британского колониализма, поглощал целые миры и создавал поразительно подробные и объемистые донесения практически обо всем увиденном – от Синда (провинции сегодняшнего Пакистана) и Танганьики до Солт-Лейк-Сити. Эти его донесения охватывали местную историю, флору и фауну, физическую и нравственную характеристику попавшихся по пути народов, включая их историю, заболевания, архитектуру, кухню, военные укрепления, обычаи, религиозные верования, сватовство, брачные обычаи и многое другое. Ни одна деталь не казалась ему недостойной внимания, и он никогда не упускал случая выказать свою безграничную ученость. “Хиг арабы называют “салаб”, из его длинных жестких волокон они изготавливают веревки, – сообщал он в примечании к своей книге “Первые шаги по Восточной Африке”, представлявшей собой отчет о харарской экспедиции. – Влажные участки земли у подножья холмов, поросшие кустиками этого растения, – излюбленные места обитания песчаных антилоп, куропаток и прочей дичи”. Несмотря на свою эрудицию и хорошее знакомство с поэзией и философией Востока, Бёртон порой выказывает предрассудки, типичные для Британской империи XIX века. По сегодняшним меркам особенно категоричными кажутся некоторые его характеристики жителей Африки и Ближнего Востока. “Могу заметить, что понятия “совесть” в Восточной Африке не существует, а о “раскаянии” говорят лишь тогда, когда жалеют об упущенной возможности совершить смертельное преступление, – писал он в своем отчете о харарской экспедиции. – Характер у ээса [бедуинское племя, которое Бёртон наблюдал в Сомали] детский и послушный, они хитрые и недалекие в суждениях, добрые и непостоянные, добродушные и вспыльчивые, сердечные и бесчестные, славятся своей жестокостью и коварством… Разбойник у них уважаемый человек, убийца – герой (и чем более зверское убийство совершается среди ночи, тем лучше). Честь состоит в человекоубийстве: бедуины подобны гиенам, им нельзя доверять, они в любой миг готовы к кровопролитию. Славой у них почитается причинение всяческого вреда”.
Позднее, когда Бёртон уже испытывал горечь и разочарование, когда его осаждали враги и преследовали карьерные неудачи (он не мог продвинуться дальше капитанского чина в армии и выше младшего консула на дипломатическом поприще), он написал такой трактат о евреях, который привел бы в восторг Адольфа Гитлера.
В фокусе пристального внимания Бёртона всегда находились женщины, которые ему встречались. В его произведениях содержится множество сокровенных подробностей, понятных лишь посвященным, – например, что йеменки смеются над сомалийками из-за их полных бедер, а сомалийки в свою очередь сравнивают “тощие ляжки соседок с лапами головастиков или лягушат”. Он отмечал, что в Сомали мало “шлюх”, но что “из-за бездеятельности мужей” сомалийки предпочитают “заводить шашни с иностранцами, следуя известной арабской пословице: “К новому гостю прикованы все взоры”. А, как заметил один из биографов Бёртона, “кто, как не Бёртон, был таким “новым гостем”?”
И это еще не все, если взять, для примера, все те же “Первые шаги по Восточной Африке” – лишь одну из сорока с лишним книг, написанных Бёртоном. Он сообщал читателям, что “сомалийцы знают лишь один способ заниматься любовью”, а именно лежа на боку: женщина слева, мужчина справа. Еще он очень дотошен и обстоятелен в описании инфибуляции – “этого варварского метода сохранения девственности и целомудрия”, который практиковался в большинстве восточноафриканских племен. Метод заключался в “зашивании половых губ девушки либо кожаным шнурком, либо – чаще всего – конским волосом”. Бёртон, наверняка черпавший свои сведения из реальной жизни, знал и про способы, какими женщины выходили из положения: “Те, кто боится неверности жены, перед отъездом зашивают ей промежность, но женщина, имеющая намерение нарушить верность, запросто разрывает шов, а потом, утолив свои желания, снова зашивает все как было”. Такие подробности сопровождаются огульным обобщением: “Век прекрасного пола в Восточной Африке длится дольше, чем в Индии и Аравии, однако в тридцать лет женские чары уже на исходе, а с приходом старости женщины не избегают чудовищного восточного одряхления”.
Бёртон во многом вторил рассказам более ранних путешественников по Востоку, от Марко Поло до Лодовико. Подобно своим предшественникам, он описывал мир, полный чудес и жестокости, с той лишь разницей, что писал о народах, живших не так далеко от Европы, о народах, которых колонизаторы называли или еще только собирались назвать “туземными”. И это наделяет некоторые, наиболее яркие из его описаний такой правдивостью, что от нее читателя пробирает дрожь. Бёртон был бесстрашным собирателем информации, жадным и неутомимым искателем объективных знаний, и если временами ему не удавалось добиться объективности, то он этой целью все-таки задавался. “Я уже позабыл столько, сколько многие арабисты успели лишь выучить”, – написал он однажды.
А еще Бёртон был беспощаден в своих выводах, хотя ему многое нравилось в этом непохожем на Запад мире, особенно когда речь шла о тех элементах чувственности, которых досадным (по его мнению) образом недоставало в Европе. Он приходил в лирическое настроение в Египте, где открыл для себя арабское понятие кайфа, в котором, по представлению Бёртона, заключалась самая суть различий между Востоком и Западом. Это “смакование животного существования, пассивное наслаждение чистым ощущением, приятная истома, мечтательный покой, строительство воздушных замков, которые в Азии заменяют энергичную, напряженную, страстную жизнь Европы”. Обратной стороной этого восхитительного кошачьего гедонизма выступает непроизвольная, бездумная азиатская жестокость, которую Бёртон описывал с дотошными подробностями. В глазах Бёртона Азия была чуждой, отдельной и обособленной культурной территорией, и для ее освоения требовались наблюдения и опыт, а не фанатизм и шаблонное мышление.
Он рассказал своему командиру в Синде, Чарльзу Нэпиру, о нескольких местных жителях, которые согласились, чтобы их казнили вместо осужденных богатых убийц. Они сделали это, докладывал Бёртон, в обмен на сытную предсмертную кормежку и денежную выплату их прозябающим в нищете семьям. Он знал мужчин, которые отрубали головы своим дочерям и сестрам по подозрению в супружеской измене. В знаменитом донесении Нэпиру, составленном в 1845 году, он описывал бордели, где клиентам предлагались услуги мальчиков и евнухов. Будучи единственным офицером в британском лагере, говорившим на местном языке, Бёртон получил задание заглянуть в эти бордели, так как Нэпир опасался, не окажут ли они развращающего влияния на его солдат. Переодевшись местным, Бёртон “скоротал не один вечер в городишке” (имеется в виду недавно основанный город Карачи) и узнал, что там действуют три подобных борделя и что в них мальчики ценятся гораздо выше евнухов. “Мошонку неизувеченного мальчика можно использовать как своего рода уздечку для управления движениями этого животного”, – пояснял он. Бёртона не ужасала проституция, скорее наоборот, зато его ужасало рабство. Работорговля оставалась довольно заметным и весьма прибыльным делом в Восточной Африке, занимались ею в основном арабские торговцы, и был широко распространен обычай калечить рабов неописуемо жестоким образом. Для Бёртона характерно увлечение сочными, наглядными и порой ужасающими деталями. Путешественник вроде Флобера, просто проезжавший мимо, мог бы лишь отметить присутствие работорговцев. Однажды во время пребывания в Египте Флобер даже описал сцену в Асьюте, столице Верхнего Нила, где рабский караван сделал “вынужденный привал, которым пользуются джеллабы (работорговцы), чтобы изувечить молодых негров, готовя их к службе в гареме”. Но если рассказ Флобера – всего лишь торопливые и поверхностные заметки досужего туриста, то Бёртон, профессиональный путешественник и антрополог, поведал об этой процедуре во всех омерзительных подробностях. В одном из примечаний, которые он собрал в компендиум, посвященный сексуальным обычаям, и опубликовал в качестве приложения к своему переводу “Тысячи и одной ночи”, Бёртон приводит дотошное описание хирургической операции, которой подвергают мальчиков и молодых мужчин, кастрируя их для работы евнухами в восточных гаремах: “Половые органы отсекают одним ударом бритвы, затем в уретру вставляют трубку (оловянную или деревянную), рану прижигают кипящим маслом, а затем пациента помещают в свежую навозную кучу. Его кормят одним молоком, и если он еще не достиг половой зрелости, то, скорее всего, он выживет”.
Иными словами, Бёртон отнюдь не был каким-нибудь мечтательным романтиком, настолько влюбленным во все неевропейское, чтобы в упор не замечать многих мрачных и диких сторон неевропейской жизни. Об этих темных сторонах никогда не следует забывать. Богатый сексуальными возможностями мир Востока во многом питался – и до сих пор питается – эксплуатацией и несправедливостью, и Бёртон, в отличие от сегодняшних “секс-туристов”, прекрасно сознавал этот факт, хотя и сам не упускал возможностей. По сравнению с ним даже такой его современник, как Флобер, кажется наивным любителем путешествий, не понимающим, как на самом деле устроен мир, который предоставляет ему удовольствия.
Фигура Бёртона важна не потому, что он вовсю наслаждался доступным сексом в Африке и Азии. Он был далеко не единственным англичанином, который посещал в Синде лал-базары, то есть местные “кварталы красных фонарей” (лал на хинди означает “красный”), вступал в связи с разными биби, как называли любовниц из числа индианок (биби на хинди означает “порядочная женщина”) или развлекался с девушками-африканками с кожей “темно-орехового цвета” и “идеально симметричными руками и ногами”. Все это испытали и многие британцы и путешественники из других европейских стран. Если Флобер сознавался в особом пристрастии к экзотическому сексу в частной переписке, то Бёртон стал главным сторонником идеи превосходства экзотического секса. Это была единственная сфера жизни, где, по мнению Бёртона, Восток неизмеримо превосходил Запад, и вагинальный атлетизм девушек-рабынь народа галла был лишь одним из множества примеров этого превосходства, которые он приводил в своих обширных литературных трудах.
Бёртон считал, что в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке живут настоящие мастера секса и культ любви стоит там неизмеримо выше того низкого, неудовлетворительного уровня, над которым не поднимается фригидная христианская Европа. Восток был местом, где смешивалось эротическое и поэтическое и где, лишившись налета аморальности, секс становился областью суждения и оценки знатоков, предметом ученого культивирования. Бёртон провел на Востоке много лет, и его непрестанное изучение сексуальных обычаев состояло в равной мере из личной постельной практики и серьезных научных наблюдений. “У него возникло убеждение – возможно, подтверждавшееся благодаря прошлым личным неудачам или благодаря знакомству с огромным разнообразием услуг на сексуальном рынке, – что на Востоке накоплен колоссальный опыт, от которого Запад, и в особенности Англия, глупейшим образом отгораживается, возводя целые плотины ложной скромности и стыдливости”, – писала фон Броуди в своей биографии Бёртона. Бёртон принадлежал к тому немногочисленному авангарду в Британии, представители которого стремились освободить Запад от сексуального самоограничения. Бёртон и его единомышленники подвергались серьезному риску, поскольку за публикацию откровенных текстов сексуального характера – вроде тех, что они переводили и издавали, – законы викторианской Англии карали длительными сроками тюремного заключения. Выступая поборником восточной сексуальности, Бёртон стал в каком-то смысле предтечей той сексуальной революции, которой предстояло спустя много десятилетий захлестнуть Европу и Соединенные Штаты и которая отчасти черпала вдохновение в эротических ритуалах Востока – как действительно существовавших, так и вымышленных.
Бёртон родился в Англии в 1821 году, но его отец, отставной офицер британской армии из Ирландии, вскоре увез семью в континентальную Европу, и там дети – Ричард, его брат и сестра – получали в основном домашнее образование. Он в раннем возрасте овладел несколькими европейскими языками и, возможно, выучил даже цыганский язык, когда у него (по слухам) была связь с девушкой из Румынии. Потом он учился в Оксфордском университете, где начал изучать арабский (который продолжал совершенствовать всю жизнь), но оттуда его исключили за дуэль с другим студентом, насмехавшимся над “армейскими” усами Бёртона. Это обстоятельство побудило его купить себе чин в армии Ост-Индской компании и отправиться в Индию, тем самым положив начало своей необыкновенной карьере солдата, агента разведки, шпиона, исследователя-первооткрывателя, лингвиста, писателя и переводчика. Перечень его достижений просто поразителен. Одно из первых достижений – путешествие в Мекку и написанный им яркий отчет об этой поездке – прославило его на всю Англию.
Вскоре после этого он предпринял экспедицию в Харэр и часть путешествия проделал вместе с Джоном Хеннингом Спиком, почти столь же знаменитым исследователем, который в позднейшие годы сделался заклятым врагом Бёртона. За харарской экспедицией последовала самая прославленная из всех экспедиций Бёртона: он отправился на поиски истоков Нила, причем тоже в компании Спика. Главной цели эта экспедиция так и не достигла, зато привела к открытию сразу двух африканских озер – Танганьики и Виктории. Бёртон написал книгу об этом путешествии – “Озерные области Центральной Африки: зарисовки первопроходца”, и ее одной было бы вполне достаточно, чтобы принести ему славу одного из величайших географов и антропологов в истории.
В более поздние годы Бёртон, владевший, как о нем рассказывали, двадцатью девятью языками, выполнил полный, без купюр, перевод сборника сказок, обычно называемого по-английски “Арабскими ночами”, заглавие которого он перевел как “Книга тысячи и одной ночи”, и сопроводил его подробными примечаниями и большим приложением, куда вошло множество сведений, собранных Бёртоном за долгие годы. Еще он перевел два индийских руководства по искусству любви, впоследствии ставших наиболее читаемыми, – “Кама-Шастру” (известную также под названием “Ананга-Ранга”) и “Камасутру”. Вступив, казалось бы, в разительное противоречие с собственными жизненными предпочтениями, он женился на английской аристократке и набожной католичке по имени Изабель Эранделл; по-видимому, это была единственная белая женщина, с которой его связывали близкие отношения. Впоследствии она написала полную восхищения биографию мужа, но она же сожгла огромное множество его дневников и писем – как полагают, ввиду их эротического непристойного содержания.
В результате биографам Бёртона приходилось читать между строк опубликованных Бёртоном книг, чтобы составить представление о нем как о человеке с огромным сексуальным аппетитом. Например, в начале экспедиции в Мекку он сделал остановку в Александрии (где пробыл около месяца) и записал в своем “Личном повествовании о паломничестве в Медину и Мекку”, что воспользовался “случаем увидеть “Аль-наль”, пчелиный танец… потому что пройдет еще не один месяц, прежде чем я снова смогу насладиться столь приятным зрелищем”. И на основании этой короткой записи делается вывод, что Бёртон, должно быть, уделил часть времени посещению проституток, как он делал, похоже, повсюду, куда его заносило, – и такое предположение выглядит довольно правдоподобным. Флобер тоже писал об этом пчелином танце, и из его рассказов становится ясным, что сам танец служил предварительным ритуалом к любовному акту. Позже в книге о цыганах – а большинство плясуний, исполнявших пчелиный танец, были цыганками – Бёртон называл этих танцовщиц “искуснейшими соблазнительницами, чья красота делает их опасными”.
И жизнь Бёртона, и его брак, как и бросающееся в глаза противоречие между ними, во многом проливают свет на сложности викторианской жизни и в этом смысле служат иллюстрацией той атмосферы, против которой выступали Бёртон и его единомышленники, публиковавшие индийские учебники любви.
Бёртон вышел на сцену в эпоху зарождавшейся гегемонии буржуазии, в ту пору, когда сколачивали большие состояния люди динамичные, самоуверенные, богатые и лелеявшие имперские амбиции. Их называли князьями купечества или капитанами промышленности: такие “титулы” указывали на их статус новой аристократии в европейском обществе. Однако, как писал историк Питер Гэй, основная масса нового сословия отнюдь не блистала величием. Ее представители были “буржуазными пролетариями”, мелкими купцами, конторскими служащими и прочими “белыми воротничками”, занимавшими довольно шаткое финансовое и социальное положение. Они нисколько не претендовали на аристократический статус, однако мечтали о респектабельности. “Именно потому, что большинство из них теснилось вокруг нижних ступеней пирамиды, они так отчаянно силились придерживаться мещанской морали и вести мещанский стиль жизни”, – писал Гэй. Респектабельность – вот один из критериев, позволявших отличить этих мещан, или представителей “среднего класса”, от пролетариата, от которого они страстно желали отличаться, – и уж тем более от окружавшей их городской бедноты. Главным отличительным признаком этой самой респектабельности являлось то суровое, ретроградное отношение к сексуальности, которое за многие десятилетия сделалось характерной приметой викторианского общества. Как сформулировал Гэй, оно складывалось из трех элементов: “нарочитая пристойность, усердная самоцензура и озабоченность безупречной нравственностью”.
На самом деле буржуазия, возможно, и не была столь уж одержима чопорной благопристойностью, как мы себе рисуем. И все же в силу экономической необходимости буржуа должны были одобрять сексуальную воздержанность. Действительно, необузданное стремление к сексуальному удовлетворению виделось им признаком пролетарской вульгарности. “Половой акт считался темным делом, – писал один историк о взглядах английского среднего класса, – и хорошо воспитанным мужчинам и женщинам не полагалось испытывать сексуальных желаний”. Некий доктор Джеймс Коупленд, автор популярного “Справочника практической медицины”, предостерегал от “поллюций”, вызываемых “рукоблудием”, как он выражался, то есть мастурбацией, называя в числе возможных последствий сокращение срока жизни. Уильям Эктон, другой врач и, пожалуй, самый известный авторитет викторианской эпохи в вопросах пола, высказывался ясно и бескомпромиссно. Мастурбация, писал он, делает тело “чахлым и слабым”, мышцы становятся “вялыми”, лицо – “болезненным, землистым или покрывается пятнами угрей”, а умственная деятельность “ослабляется и замедляется”.
Если отвлечься от данной частности, то, по мнению Эктона, удовлетворение сексуальных потребностей вне брака “пагубно”. Оно ведет к “дому смерти”. Молодым людям необходимо внушить, что “любое половое излишество есть абсолютное зло”, и не только из-за опасности заразиться сифилисом, этим повсеместным бичом викторианской эпохи, но и (что более предсказуемо) из-за того, что оно подтачивает жизненные силы, которые, по мнению ученых-викторианцев, можно, напротив, сберечь, если удерживать семенную жидкость. В своих “ультравикторианских” исследованиях Эктон пропагандировал мнение, что женщины вовсе не получают удовольствия от секса или что им не следует этого делать ради их же душевного и физического здоровья. Этот сведущий ученый муж (да, как ни парадоксально, в ту пору Эктон славился своим научным подходом, открытостью мышления и либеральными взглядами) считал, что “потакания излишним желаниям” приводят к раку матки и к безумию. Многие “лучшие матери, жены и домохозяйки, – писал он в своем важнейшем труде “Функции и расстройства репродуктивных органов”, – не испытывают особого сексуального влечения или не помышляют о нем. Любовь к семье, к детям и к домашним обязанностям – вот и все страсти, которые им известны. Как правило, скромная женщина редко стремится к удовлетворению собственных сексуальных потребностей. Она подчиняется желаниям мужа, но прежде всего для его удовлетворения, и если бы не материнский инстинкт, то она предпочла бы вовсе уклониться от его объятий”.
Нет никакой возможности узнать, действительно ли женщины из среднего класса в викторианскую эпоху относились к сексу именно так, как полагал Эктон, однако если не закрывать глаза на реальность сексуального удовольствия, то можно смело утверждать: поведение многих людей никак не согласовывалось с описаниями доктора Эктона. Дело в том, что в викторианском обществе пышно расцветала проституция, а состоятельные мужчины гордо хвастались друг перед другом любовницами-содержанками, которые выступали живыми атрибутами их материального преуспевания. Кроме того, существовала детская проституция (причем предлагались услуги детей обоего пола), несмотря на все старания благотворительных обществ искоренить это явление. “В середине века, – писал историк Рональд Хайам, – количество борделей в Лондоне почти наверняка превышало количество школ и приютов, вместе взятых”. Аристократия в ту пору держалась точно таких же взглядов на любовные связи и супружеские измены, как и всегда (вплоть до нынешнего дня). Рабочий класс жил разгульно, распутничал и пьянствовал. В государственных школах старшие, более сильные ученики хладнокровно насиловали младших, более слабых. Хотя порнография оставалась нелегальной, раздобыть ее было нетрудно, как в наши дни – нелегальные наркотики. Генеральный прокурор середины века лорд Кэмпбелл, который дал определение непристойности, куда попало все “оскорбляющее скромность или приличия, выражающее или подразумевающее непристойные или развратные идеи или вредящее целомудрию распутными, похотливыми образами”, позаботился о создании законов против порнографии. И тем не менее она просачивалась в Англию – в основном из Франции, несмотря на то что Общество борьбы с пороками провело кампанию за наложение запрета на сочинения вроде книг Рабле, а один известный издатель угодил на год в тюрьму за публикацию английского перевода романа Эмиля Золя “Земля”. А вокруг расстилалось безбрежное заговорщическое молчание: никто не затрагивал щекотливую тему, если не считать самых чопорных, в духе доктора Эктона, рассуждений о сексе и сексуальности.
Однако распространенность проституции и порнографии указывает на то, что викторианское общество было сложным и – особенно в последней трети XIX века – переживало переходное состояние в сексуальной сфере. “Мы совершили бы грубую ошибку в суждении о буржуазном опыте, если бы решили, что если буржуа XIX века не говорили о чем-либо вслух, то они не знали об этом, не занимались этим и не получали от этого удовольствия”, – писал Гэй. Самому доктору Эктону следует воздать должное за то, что он открыл для публичного обсуждения вопросы пола, ранее окружавшиеся заговорщическим молчанием викторианцев, и в частности привлек общественное внимание к проституции. Относясь к ней отрицательно, он тем не менее считал это явление неизбежным, а потому требующим особых законов. Он посвятил проституции научный справочник, благодаря чему в 1860-е были приняты три закона о заразных болезнях, уподобившие проституцию военным лагерям в Англии: проституток требовалось регулярно подвергать медицинскому осмотру и в случае заражения принудительно помещать в больницы для лечения. В 1897 году эти законы распространились и на Индию. Хотя можно счесть Эктона несносным ханжой, если почитать его рассуждения о женской сексуальности, в действительности он был либеральным активистом и признавал, например, и “непроходимую тупость, которая закрывает глаза на всем известное зло”, и право женщины “торговать своим телом”, если она считает это нужным.
И тут-то на сцену выходит восточная сексуальность – отчасти благодаря Ричарду Бёртону, его переводам индийских учебников любви, объемистому “Заключительному очерку” к “Тысяче и одной ночи” и многим другим текстам: информацию сексуального характера он часто приводит в длинных ученых примечаниях. Не подвергшийся цензурным сокращениям перевод “Тысячи и одной ночи” был выпущен в 1880-е в виде шестнадцати томов, двумя изданиями с ограниченным тиражом. То есть Бёртон принадлежал к тому освободительному движению сексуально-культурного характера, которое за столетие до возникновения другого, столь же примечательного движения, обращалось за примерами к Востоку, чтобы продемонстрировать скованность Запада запретами, враждебными жизни и ее радостям. Возникали настроения, которые Гэй назвал “буржуазофобией” – ненавистью к буржуазии со всеми приписываемыми ей грехами: ханжеством, вульгарностью, лицемерием и сентиментальностью, с добровольным невежеством в вопросах пола и подавлением желаний. Флобер, пожалуй, был самым ядовитым из всех “буржуазофобов”, и его поведение во время поездки в Египет, как и приземленные, откровенные письма, которые он писал оттуда, говорит о том, что он сознательно избрал альтернативный сексуальный стиль жизни (хотя в те времена само это выражение, “стиль жизни”, еще не вошло в обиход). Флоберу хотелось вести себя по-другому, не по-мещански, и, употребляя в разговоре с друзьями непристойные или грубые слова, толкуя о “членах”, “шлюхах”, “промежностях” и “нубийских девушках, у которых с шеи до бедер свешивались ожерелья из золотых пиастров”, он тем самым принимал их в свой антибуржуазный “клуб”. То, что “ненависть к буржуазии – начало добродетели”, является “аксиомой”, – писал Флобер Жорж Санд. Бёртон, вероятно, не известный Флоберу (который до выхода в свет “Госпожи Бовари” совершенно точно не был известен Бёртону), высказывал поразительно похожее суждение: “Предвкушение книги, которая вызовет у публики мурашки, действует весьма бодряще”.
Сексуальные похождения Флобера в Египте были исключительным эпизодом его биографии и больше не повторялись. Бёртон же, напротив, был поглощен восточной сексуальностью на протяжении всей жизни. Безусловно, такому увлечению поддавалось меньшинство западных мужчин, для подавляющего большинства предметом влюбленности и сексуального влечения оставались западные женщины, с ними они завязывали романы и заключали браки. Однако Бёртон отчасти предвосхитил ту более эпоху, когда смешение цивилизаций стало обычным делом и у некоторых мужчин появился настоящий культ азиатских женщин, которые казались им от природы более чувственными, менее скованными, более пылкими, стройными, благоухающими, по-кошачьему грациозными и томными, менее подверженными соревновательному духу, менее категоричными в требовании абсолютной верности и, по некоторым или по всем этим причинам, более привлекательными, чем европеоидные. Именно это чувствовал Бёртон. Культ азиатской женщины среди западных мужчин, превознесение ее эротических качеств не были придуманы Бёртоном, зато получили подкрепление благодаря его сочинениям и его опыту. С самого начала жизни в Индии и он, и другие превозносили достоинства биби по сравнению с белой женщиной, какой она была на родине, потому что биби причиняла меньше хлопот и была искуснее в постели. Не кто иной, как англиканский епископ Калькутты Реджинальд Хибер, сознавался, что ему бывает трудно отвести взгляд от местных бенгальских женщин, когда на рассвете те купаются в реке, и признавал, что “темно-бронзовый оттенок их кожи намного приятнее и естественнее для человеческих глаз, нежели бледная кожа европейцев”. Рассуждая под несколько иным углом, первый виконт Гарнет Вулзли, полевой маршал британской армии, рассказывал, что сожительствовал с “восточной принцессой”, которая исполняла “все обязанности жены, при этом не доставляя никаких хлопот”, и заявлял, что не намерен жениться на “какой-нибудь стерве” в Европе, разве только на богатой наследнице.
За семь лет у Бёртона в Индии было три важные любовные связи, все с местными женщинами. И, учитывая его дальнейшую деятельность, понятно, что по сравнению с ними европейские женщины казались ему бесцветными и в буквальном, и в переносном смысле. Описанные Флобером встречи с извивающимися, умащенными маслом, надушенными танцовщицами-блудницами как бы подразумевали, что по сравнению с ними женщины в родной стране – скучные и пресные партнерши. Флобер, в отличие от Бёртона, никогда явно этого не утверждал, однако и не слал Буйе длинных, подробных писем о своих встречах с парижскими проститутками. В глазах Бёртона и других англичан, побывавших в Индии или на Цейлоне, Восток был неким хранилищем мудрости и – как предположил Бёртон в связи с девушками галла – такого мастерства, отсутствие которого на Западе приводило к явлениям более серьезным, чем просто упущенные возможности, а именно к фригидности, неудовлетворенности, неспособности жить полной жизнью.
Пытаясь проломить крепкий лед викторианской морали, Бёртон сделался естественным партнером группы англичан, в основном состоятельных и богемных, – эстетов, порнографов и поклонников маркиза де Сада, которые при иных обстоятельствах, вероятно, не имели бы ничего общего с этим бесшабашным первооткрывателем и агентом британского империализма. В 1853 году Бёртон, готовясь к тайной экспедиции в Мекку, встретил в Египте молодого человека по имени Фред Хэнки. Хэнки был, по выражению одного историка, “отъявленным распутником” и проводил большую часть времени в Париже, коллекционируя порнографию и поставляя коллекции эротических материалов богатым англичанам. В письме секретарю Королевского географического общества Бёртон далеко не голословно свидетельствовал о том, что итальянцы устраивали в Египте оргии, и называл дом, где жил, “средоточием порока, которое показывает, на что способен Каир, и посрамляет самые “Арабские ночи”.
Спустя годы, когда Бёртон уже вернулся в Лондон и женился на Изабель Эранделл, одним из его ближайших друзей стал Ричард Монктон Милнс, позже – барон Хотон. Милнс был меценатом, и в его загородном поместье часто собирались такие люди, как Бенджамин Дизраэли, Томас Карлейль, Алджернон Суинберн и, конечно же, Бёртон. Еще он страстно коллекционировал эротику, и его редкостное собрание сочинений де Сада, как писал один историк, “пользовалось большой известностью в высших эшелонах английских литературных кругов”. Другим членом этого кружка был Генри Эшби, богатый делец и завсегдатай борделей от Лондона до Алжира, который под псевдонимом Пизанус Фракси составил три огромных указателя порнографической литературы – сборник, озаглавленный на латыни Index librorum prohibitorum.[15] Эти люди отнюдь не принадлежали к тому типу “клиентов сомнительных секс-шопов”, который появился в большинстве западных городов много десятилетий спустя. Это были настоящие эрудиты, для которых порнография была символом раскрепощения, освобождения от мертвой хватки “респектабельности”. Эшби, еще один добрый приятель Бёртона, возможно, являлся автором одной из самых примечательных книг, написанных в викторианской Англии, – одиннадцатитомного сочинения “Моя тайная жизнь”, где с садистской жестокостью и полной откровенностью рассказывалось о похождениях некоего джентльмена с 1250 женщинами. И Милнс, и Эшби были клиентами Хэнки, который жил в Париже, намеренно подражая де Саду, Эшби даже называл его “вторым де Садом, только без мозгов”.
Такова была группа людей (Хэнки не в счет), оказывавшая поддержку Бёртону в его начинании, которое стало важнейшим делом его жизни в более поздние годы: он вознамерился приобщить соотечественников к радостям и премудростям секса, переведя на английский язык два индийских учебника любви, а затем “Тысячу и одну ночь”, дополнив их огромным справочником сексуальных обычаев. В значительной мере благодаря финансовой помощи Милнса Бёртон и Форстер Фицджеральд Арбэтнот, родившийся в Индии исследователь индийской литературы, создали в 1882 году “Общество Кама-Шастры”. Эта организация – вымышленный издательский дом, якобы находившийся в Бенаресе (сегодняшнем Варанаси), в Индии, – была просто ширмой, позволявшей издавать индийские учебники секса, в то же время не подпадая под строгие английские законы против порнографии.
“Самым заметным явлением можно назвать наше невежество в области афродизиаков: едва ли возможно найти хоть один восточный труд по врачеванию, где изрядное количество страниц не отводилось бы рассмотрению вопроса, который любой лекарь на Востоке слышит десять раз в день”, – писал Бёртон в одном из своих путевых очерков, поясняя преследовавшее его в течение всей жизни желание повысить эротическое сознание англичан – желание, позднее вылившееся в создание известных переводов. Много лет спустя, в заметке к своему переводу “Ананги-Ранги”, Бёртон подвел печальный итог своему индийскому опыту, косвенным образом признавшись в том, что его любовницы обращали внимание на его дремучесть в искусстве любви. Европейцев “индианки презрительно сравнивают с деревенскими петухами, и потому ни одна туземная девушка никогда по-настоящему не любила иностранца”, – писал он. Среди обычных приемов индусов – “искусство промедления”, умение не кончать слишком быстро, тем самым доводя партнершу до удовлетворения. Секрет этого “искусства” состоит в том, что во время полового акта нужно думать о чем-то постороннем или делать что-то еще, чтобы “избежать чрезмерного напряжения мускулов и отвлекать мысли, потому-то во время соития индусы пьют шербет, жуют бетель и даже курят”.
В других работах Бёртона содержится много подобных сведений, и по этой причине можно считать, что в них выразились взгляды Бёртона: Восток относится к сексу с естественной открытостью, а на Западе господствуют “глупые предрассудки и жалкое лицемерие”. “Принятые среди дикарей и варваров сравнительно необузданные сношения между мужчинами и женщинами облегчали ум при помощи телесных отправлений”, – писал Бёртон, продолжая мысль о том, что западные люди не знают такого естественного облегчения и потому вынуждены “смаковать сладострастные картинки и образы” и жить среди “шорохов [воображаемого] совокупления”. Высказывая точку зрения, которая сегодня кажется удивительной, Бёртон считал, что “мусульмане, изо всех сил подрывающие присущий христианству аскетизм, не стыдятся своего чувственного аппетита, скорее наоборот”. Он подразумевал в основном суфийскую ветвь ислама (Бёртон восхищался суфиями и переводил суфийскую поэзию), а вовсе не тот суровый, “пуританский” ваххабитский толк, зародившийся в Саудовской Аравии, который взял верх в исламской идеологии в наши дни. В подтверждение своих слов Бёртон приводил историю об одном персидском “святом”, поведанную учеником, который остановился на постой у него дома, в Ширазе: однажды “святой” вышел из своей комнаты и потребовал женщину, “после чего ему отдали в жены девушку-рабыню, дабы он мог удовлетворять с ней плотские желания”.
“Напротив, сегодняшняя Англия предпочитает воспитывать оба пола и держать людей всех возрастов в глубоком невежестве относительно половых и межполовых отношений. Последствия такой глупости бывают особенно жестокими и болезненными”, – писал Бёртон, рассуждая совсем как ранний сторонник сексуального просвещения, каковым он и был. Ясно и недвусмысленно рассуждая о женском удовольствии (и о его подавлении посредством женского обрезания и инфибуляции), Бёртон не только опровергал господствовавшие в его время викторианские предрассудки, но и предвосхищал научные труды Фрейда и Хэвлока Эллиса, которым предстояло появиться в конце XIX века. В этом отношении он отнюдь не был доктором Эктоном и писал: “В Англии некоторые матери – такие идиотки, что даже не объясняют дочерям, чего тем следует ожидать в брачную ночь. Оттого часто бывает много неприятных сюрпризов: отвращение, неприязнь к мужу. Современный обычай таков: на постели лежит невеста под хлороформом, а на подушке жених находит записку: “Мама сказала, что ты можешь делать со мной все, что захочешь”.
Труды Бёртона служат ранними иллюстрациями к литературной теме, впоследствии сделавшейся постоянной в Британии, – к разоблачению святоши-морализатора, часто миссионера, который посвящает всю жизнь тому, чтобы перевоспитывать “туземцев” и искоренять у них распутные и вызывающие привычки (например, расхаживать почти без одежды в жарком тропическом климате) и внушать им, что секс существует для продолжения рода, а не для удовольствия. Позднейшими “портретами” таких святош стали мистер и миссис Дэвидсон из рассказа Сомерсета Моэма “Дождь”. Супруги Дэвидсоны были миссионерами в южнотихоокеанском регионе и с большим успехом боролись с безобразными, аморальными привычками туземцев. По сегодняшним меркам, удушливо-чопорные, невыносимо самодовольные Дэвидсоны выглядят просто карикатурными персонажами (конечно, вплоть до последних строк рассказа, где Моэм приоткрывает страшную тайну мистера Дэвидсона). Можно ли вообразить, чтобы в наши дни кто-нибудь рассуждал подобно миссис Дэвидсон, когда та сообщает рассказчику, что им удалось отучить туземцев от ношения набедренных повязок лава-лава, так что теперь “все женщины носят длинные балахоны, а мужчины – штаны и рубашки”? Или когда мистер Дэвидсон заявляет: “Я бы сказал, что самой трудной задачей, стоявшей передо мной, было привить туземцам понятие о грехе”.[16]
Но, как мы еще увидим, правда состоит в том, что супружеские пары вроде четы Дэвидсонов были в конце XIX и начале XX века довольно частым явлением в мире прозелитизма в Азии и на островах Тихого океана, и это явление проливало свет на еще одну сторону эротического взаимодействия между Востоком и Западом. Ведь если западные люди часто вовсю пользовались тамошними сексуальными возможностями для увеличения собственного удовольствия, то в других случаях они стремились вытравить всякие удовольствия из жизни колонизованных ими народов. Бёртон (и, конечно же, Моэм, хотя значительно позже) принадлежал к лагерю гедонистов-эксплуататоров, а не миссионеров.
Такова была атмосфера, в которой появились переводы индийских учебников любви, и похоже, они попали в руки отзывчивых читателей. Бёртон и фиктивное “Общество Кама-Шастры” выпустили два очень дорогих издания весьма ограниченным тиражом: первая партия увидела свет в 1883 году в количестве двухсот пятидесяти экземпляров, в семи частях, причем все, кроме одного, были отпечатаны якобы в Бенаресе, и на всех красовалась надпись: “Только для частного распространения”. Второе издание, выпущенное еще меньшим тиражом и в виде одного тома, появилось позже, и на этом совместная деятельность Бёртона и “Общества Кама-Шастры” завершилась. Однако многочисленные “пиратские копии” сделали из “Кама-Шастры” Бёртона едва ли не один из главных бестселлеров в истории.
А затем появилась “Тысяча и одна ночь” – гораздо более обширный труд, включавший перевод, редактуру и комментарии. Вначале Бёртон выпустил тысячу экземпляров в десяти томах, а после того, как разослал предложения приобрести книгу примерно тридцати шести тысячам потенциальных покупателей, его (по выражению одного из биографов Бёртона, Эдварда Райса) буквально “завалили ответами”, и он поспешил выпустить второе издание, которое озаглавил “Дополнительные ночи”. Первоначальные “Ночи” Бёртона стали одной из тех немногочисленных популярных книг, где примечания читались с тем же интересом, что и основной текст, хотя этот текст и представлял собой рассказ о том самом восточном гареме, который веками не давал покоя воображению европейцев. Там рассказывается о царе Шахрияре, который, узнав, что ему изменяют и жена, и десять любимых наложниц, не только велел казнить изменниц, но и отказался жениться впредь. Зато в течение трех тысяч ночей он ложился каждую ночь с новой женщиной, а наутро приказывал отрубать ей голову. И вот, переспав с тремя тысячами женщин и обезглавив их всех, царь Шахрияр узнает, что больше ни одна женщина не согласна на его условия, и проявляет доброту – не принуждает силой повиноваться ему. Видя затруднение царя, его визирь предлагает Шахрияру собственную дочь, Шахерезаду, а она хитростью спасает свою жизнь, каждую ночь рассказывая царю новую сказку. По истечении тысячи первой ночи (к тому времени Шахерезада уже родила царю троих детей) царь избавляет ее от участи предшественниц, и она становится новой царицей – уже навсегда.
В примечаниях Бёртон никогда не упускает случая просветить соотечественников насчет сексуальных обычаев других народов. Когда Шахрияр застает свою жену в объятьях “огромного слюнявого чернокожего с огромными белками глаз – это было поистине жуткое зрелище”, Бёртон сообщает нам в сноске: “Распутные женщины предпочитают негров из-за величины их половых органов”. Не удовлетворившись этим, он ссылается на данные собственных исследований размеров пенисов, в ходе которых выяснилось, что мужчины и самцы животных в Африке наделены крупными гениталиями (хотя, добавляет Бёртон, “у чистокровных арабов (и у людей, и у зверей) показатели в среднем ниже европейских”). Однако чаще всего его арабские сказки служат наглядным уроком исключительной чувственности и эротической изощренности, которую он находил на Востоке, – как, например, в истории Али-Шара и девушки-рабыни Зумурруд, сохранившей в переводе Бёртона все богатство чувственных подробностей: “С этими словами она легла на спину и, взяв его руку, приложила ее к своим тайным частям, и он ощутил, что эти самые части нежнее шелка: белые, с округлыми припухлостями, выпуклые, теплом напоминающие баню или сердце влюбленного, которого истомили любовные желания… Затем он вложил свой стальной стержень в ее ножны и перестал разыгрывать привратника у ее дверей, и проповедника у ее кафедры, и священнослужителя у ее молитвенной ниши, – а она не прекращала изгибаться и простираться, подниматься и опускаться, сопровождая свои похвальные возгласы и крики “Слава Аллаху!” страстными телодвижениями, извиваясь, сжимая его член и совершая другие любовные действия”.[17]
В этих произведениях Бёртон, пожалуй, выступает последним из великих европейских путешественников на экзотический Восток, в каком-то смысле подводя итог тем научным и псевдонаучным наблюдениям, которые начали за сотни лет до него Марко Поло, Джон де Мандевиль (если только он вправду существовал) и Лодовико Вартема. Но если Бёртон олицетворяет заключительный этап в рамках одной литературной традиции, то одновременно он оказывается в самом центре новой эпохи в истории эротических взаимоотношений между Востоком и Западом. Одной из типичных черт этой новой эпохи стала коммерциализация восточной сексуальности – явление, существующее по сей день, о чем свидетельствует засилье “азиатской” порнографии, этот обширный сегмент порнобизнеса, где азиатки занимаются сексом перед камерой, причем часто с западными мужчинами. Выпуская первое издание своих “Ночей”, Бёртон опасался юридических осложнений. По иронии судьбы, именно бойкая продажа “Тысячи и одной ночи” сделала Бёртона богатым человеком. “Сорок семь лет я бился, – писал он, – и ни разу не услышал ни похвалы, ни благодарности, не скопил ни единого фартинга”. Очевидно, он намекал на многочисленных недругов, которые не давали ему подняться выше капитанского звания и отправляли его, одного из величайших британских исследователей, на дипломатические посты в самые отдаленные земли. Действительно, даже работая над переводом знаменитых трактатов о восточной чувственности, он отправлялся в злополучные экспедиции в Африку в надежде обогатиться, найдя золотые копи. Бёртон продолжал: “А в старости я перевел сомнительную книжку – и немедленно заработал шестнадцать тысяч гиней”.
Бёртон стал представителем этой новой эпохи еще и в другом отношении: на смену фантазиям и домыслам пришел реальный опыт европейцев, и они, начиная с британских и французских колонизаторов в Африке, Индии и Юго-Восточной Азии, стали ездить на Восток десятками, а затем и сотнями тысяч. Европейцам больше не нужно было читать книжки о Востоке. Они ехали туда сами и обнаруживали, к собственному восторгу, что то, о чем прежние поколения лишь мечтали, способно стать повседневной реальностью.
Глава 7
Колониализм и секс
Колониальный режим всегда предоставлял богатые сексуальные возможности колонизаторам. Во всяком случае, трудно найти такой пример в истории, когда покорение какой-нибудь восточной страны какой-нибудь западной державой не приводило бы к расцвету проституции и внебрачного сожительства. В этом кроется парадокс: христианский Запад славился своим отношением к сексу как к греху, а потому следовало бы ожидать, что те уголки земли, где царила беспросветная нравственная тьма и похоть, должны были выиграть от прихода христианской цивилизации. На деле же строители империи оказывались жадными искателями сексуальных удовольствий и сразу же устремлялись туда, где их легко было получить. Именно так происходило со времен первых торговых экспедиций европейцев в Азию, что в итоге привело к европейскому завоеванию и господству в тех областях.
В конце XV и начале XVI веков путь туда проложили португальцы, которые плыли вдоль побережья Африки, а далее брали курс на Индию, Китай, Малайзию, Японию и Индонезию. Хотя период их морского владычества продлился недолго, их сексуальная активность стала заметной страницей в истории колонизации, и страницу эту уже не выкинешь.
В XVI веке одного британского моряка на Молуккских островах (сейчас это часть Индонезии) поразила беззаботная жизнь португальского поселенца, которого он там встретил. Этот человек, рассказывал англичанин, имел “столько любовниц, сколько хотел… Днями напролет он поет и танцует, почти полуголый… и пьянствует по два дня кряду”. Многих португальцев, как и других европейцев, манила Индия, куда впервые приплыл корабль Васко да Гамы 20 мая 1498 года. Манила она, как выразился один из исследователей, “приятным устройством общества, где широко распространено и абсолютно разрешено рабство, внебрачное сожительство и многоженство”.
Когда португальский полководец Афонсу де Албукерки в 1510 году завоевал торговый порт Го а (который Португалия удерживала в течение еще 451 года), он приказал своим солдатам жениться на вдовах убитых ими же могольских солдат. Очевидно, эти вдовы тоже получили приказ выйти замуж за убийц собственных мужей. Албукерки лично присутствовал на свадьбах, а целью этих браков было создание католических семей, от которых будут рождаться португальские дети. Впоследствии этим детям предстояло служить в португальском флоте. Однако через несколько лет выяснилось, что гоанцы не становятся португальцами, зато португальцы превращаются в гоанцев – одеваются в индийские шелка, пьют для здоровья коровью мочу, курят кальян и заводят гаремы.
Примерно сто лет спустя, когда британская Ост-Индская компания положила начало фактическому правлению Британии в Индии, произошел первый британо-индийский роман, о котором остались документальные записи. В архивах компании хранится письмо, датированное 1626 годом, где рассказывается о некоем Джоне Личленде, который “несмотря ни на какие уговоры” уже несколько лет “живет с уроженкой этой страны”. Личленд отказался, как говорится в письме, “прогнать ее”, и его упорство привело к спорам внутри компании о том, не следует ли освободить его от должности. Принятое в итоге решение можно назвать историческим: решено было закрыть глаза на сексуальные прегрешения Личленда, исходя из самых практических, реалистических соображений. Начальство сочло, что увольнение Личленда “приведет лишь к тому, что он женится на ней, а значит, покинет свою страну и друзей”. Потому “решено не применять к нему крайних мер в надежде, что со временем он образумится”.
Существуют недвусмысленные свидетельства того, что соотечественники Личленда поступали так же, причем на протяжении следующих трехсот лет, хотя взятая англичанами привычка обзаводиться атрибутами индийских навабов и махарадж вызывала неизменное неодобрение у них на родине. В итоге, просуществовав около двухсот лет, она была искоренена. В конце XVIII века политик и философ Эдмунд Берк возглавил группу людей, требовавших сместить с должности колониального губернатора Бенгалии Уоррена Гастингса (одну из ключевых фигур в истории завоеваний Индии Британией) на том основании, что он, по определению Берка, способствовал буквальному изнасилованию индианок. Секс с туземными женщинами не был главным предметом недовольства Берка: больше всего его тревожила коррупция и то, что чиновники компании прибирают к рукам богатства местных жителей. Но овладение женщинами и овладение чужими богатствами являлись двумя сторонами одного процесса, благодаря которому британцы мало-помалу сделались хозяевами Индии, – и Берк, проигравший свой иск против Гастингса, не мог помешать этим незаконным посягательствам. “Девственниц, никогда не видевших солнца… осквернили самые подлые, самые ничтожные представители рода человеческого”, – заявлял он в речи перед Парламентом. Роберта Клайва, первого значительного командующего британскими войсками в Индии и человека, которому отводится главная роль в первых победах, одержанных там Британией, критики тоже называли отъявленным распутником, вовсю пользовавшимся доступностью местных женщин. Большинство рассказов про Клайва ничем не подтверждены, а некоторые вымышлены намеренно лживо. Впрочем, один документ из исторических архивов – письмо Клайву от близкого друга, где говорится о множестве сексуальных похождений, в которых они участвовали сообща, – явно свидетельствует о том, что в Индии Клайв вел далеко не целомудренную жизнь.
И Клайв – это только начало. Говорили, будто Фрэнсис Дэй, первый чиновник компании, основавший порт Мадрас на берегу Индийского океана, выбрал это место потому, что поблизости жила его любовница-индианка. Ричард Уэлсли, граф Морнингтон, генерал-губернатор Бенгалии с 1797 по 1805 год, за которым жена в Индию не последовала, лечился от одиночества, посещая бордели, чего явно не мог бы делать, будь он генерал-губернатором Канады. Младший брат Уэлсли, герцог Веллингтон – тот самый, который разбил Наполеона в битве при Ватерлоо, – так ужасался “развратным привычкам” Уэлсли, что даже высказывал желание, чтобы того кастрировали. Быть может, Уэлсли и не был типичным представителем новой породы, которую в конце 1700-х англичане, остававшиеся на родине, саркастически и уничижительно стали называть набобами, – касты чиновников Ост-Индской компании, которые, по тогдашним представлениям, перенимали обычаи коррумпированной и погрязшей в пороках Индии, жили там как махараджи, а затем пускали в ход неправедно нажитые там барыши, чтобы купить себе места в Парламенте. Но Клайв, несомненно, принадлежал к их числу. Подобно навабам, настоящим индийским аристократам, набобы (во всяком случае, многие из них) держали в Индии гаремы. У этих бесстыжих пиратов, служивших в компании, был любимый тост: “По девице и по лакху в день!” (лакхом на хинди называлась сумма в сто тысяч рупий). В XVII веке слово биби, означавшее любовницу-индианку, прочно вошло в обиход и держалось в английском языке в течение всей колониальной эпохи.
В 1971 году мне выпал случай погостить несколько дней у одной английской семьи, жившей в Западных Гатах – горах в южной Индии. Главой этой семьи был один из последних британских управляющих чайной плантацией в Индии, и он окружил себя, похоже, всеми атрибутами колониальной жизни. Жил он на вершине холма, в доме с широкими верандами, где росли орхидеи, с комнатами, где хлопотала прислуга, называвшая его сахиб (это слово на хинди означает “господин”, и оно в течение трехсот лет служило обычной формой обращения к белому мужчине в Индии). По вечерам он сидел в обшитом деревянными панелями индийском клубе – бывшем английском, – где собиралась, чтобы поесть, поиграть в теннис и напиться, местная аристократия, состоящая из чайных плантаторов. Он предавался ностальгии и любил заводить разговоры в расистском духе о старых добрых временах, когда, как он выражался, “мы держали ниггеров за яйца”. И не только за яйца. Спустя много лет я встретил в Нью-Йорке дочь этого человека, с которой не виделся с тех дней, проведенных в Западных Гатах. Среди прочего она рассказала мне, что по примеру большинства других британских управляющих чайными плантациями (и к большому огорчению ее матери) ее отец в течение многих лет держал любовницу-индианку. Она считалась его биби, сказала дочь.
Эротическая активность британцев в Индии не была неизменной. Явление “набобства” имело место в раннюю пору истории существования Ост-Индской компании и было плодом тех вольных, разнузданных времен, когда, как выразился один британский историк, “люди, отвечавшие за Индию, претерпели нравственную трансформацию и, отбросив британскую манеру мышления и публичного поведения, взамен переняли обычаи и привычки, бытовавшие на субконтиненте”. Среди обычаев субконтинента, которые они переняли с особой охотой, было взяточничество, благодаря которому многие чиновники компании быстро обогащались, и содержание любовниц-туземок, на которых они и тратили часть незаконных барышей. Со временем многих чиновников компании, офицеров британской армии и колониальных чиновников обязали брать с собой в Индию жен и детей, и там они вели идеально-скучную, полутропическую, полную консервативных условностей жизнь, социально и физически отгороженную от Индии и индийцев, к которым относились скорее с презрением, чем с восхищением. Все меньше англичан содержали любовниц-туземок (во всяком случае, открыто), к удовлетворению церковников и других критиков этого обычая. И все же Джона Личленда и отца моей приятельницы, которых разделяло больше трех столетий, объединяло то, что и многих британских колонизаторов на протяжении почти всего многовекового периода британского колониализма, причем объединяло не только друг с другом, но и с эмиссарами колониальной эпохи из других стран и в других империях, будь то голландцы на острове Дэдзима в бухте Нагасаки в Японии или французы в Северной Африке и Индокитае. Они пользовались сексуальными привилегиями, которые являлись “довеском” к колониальному господству, особенно в тех землях, где бытовала гаремная культура, где эти привилегии считались нормальными и естественными, где они вписывались в привычный общественный уклад. И часто пользование этими привилегиями отнюдь не было какой-то постыдной семейной тайной, о которой рассказывают полушепотом спустя много лет, а напротив, происходило гласно и даже являлось предметом бахвальства.
Первые представители Ост-Индской компании жили в Индии на широкую ногу, бесстыдно перенимая обычаи могольских властителей, которые в ту пору еще во многом задавали тон. В числе любимых развлечений представителей компании был ноч – чувственное представление с музыкантами и танцовщицами в шелках.
Один немецкий путешественник XVII века назвал ноч “величайшим зрелищем, какое можно себе представить”. Дэвид Охтерлони, британский резидент в Дели в 1803 году и командующий индийской армией, не только в фигуральном, но и в самом буквальном смысле послужил иллюстрацией того, как англичане перенимали повадки и привычки могольских владык. У Охтерлони будто бы было тринадцать жен, одна из которых была поименована в его завещании как биби Махруттан Мубарак уль Нисса Бегуме, или, иначе, Бегум Охтерлони. Стоит отметить, что эту женщину, которую Охтерлони называл “мать моих младших детей”, подарили (а возможно, и продали) ему, когда ей было всего двенадцать лет. Охтерлони на славу послужил своей империи: он командовал войсками в ходе карательного похода в Непал в 1814–1815 годах и, видимо, именно в силу этой заслуги требовал, чтобы к нему обращались, используя могольский титул – Защитник Государства. А еще он любил торжественно проезжать по Дели с целой свитой жен позади, причем каждая восседала на собственном слоне.

Акварель начала XIX века изображает британского резидента в Дели Дэвида Охтерлони у себя дома, курящего кальян и смотрящего представление ноч. British Library
Пример Охтерлони привлекает к себе особое внимание, потому что сохранилась миниатюра в персидском стиле, выполненная около 1820 года, где он изображен в окружении восточной роскоши. Он сидит, развалясь на ковре, опираясь на валики и подушки, в индийском наряде – в белом халате с парчовой черно-золотой оторочкой и в красном тюрбане. За ним стоят слуги, тоже в тюрбанах, а перед ним выступают музыканты и неизбежные танцовщицы. С отменным сарказмом миниатюрист изобразил на стенах четыре портрета, по-видимому, шотландских и американских предков Охтерлони (сам он родился в Бостоне): трое мужчин в военной форме и женщина в европейском платье, которая выглядит очень чопорной и суровой по контрасту с девушками-плясуньями, взирают с высоты на творящееся внизу как будто с возмущением. Однажды Охтерлони принимал у себя епископа Калькуттского Реджинальда Хибера (того самого, который, как мы помним, восхищался бронзовой кожей индианок) в точно такой же обстановке, в просторном халате и тюрбане, сидя на тахте, а позади него стоял панка-уолла, слуга с опахалом (панка) из страусовых перьев, и освежал его при помощи этого старинного подобия вентилятора.
Еще в 1906 году в донесении британскому Министерству иностранных дел некий А. Дж. Бакнилл писал: “Разумеется, мужчина европейской расы с развратными наклонностями всегда и в любом уголке мира найдет способ удовлетворить свои желания”. Этим мужчинам с развратными наклонностями был на руку трезвый взгляд британцев на окружающую действительность и попытки к ней приспособиться. В XIX веке, когда империализм достиг зенита и число колониальных гражданских служащих и солдат возросло до сотен тысяч, “беспорядочные и рискованные сношения с распутными женщинами с базара” (по выражению одного чиновника) привели к критическому увеличению случаев венерических заболеваний. Например, среди британских солдат в Бенгалии зараженные составляли от 16 до 31 % общей численности. Реальность, как выразился в 1886 году главный британский военный врач Бомбея, диктовала только два средства “удовлетворения” для неженатых мужчин. Средствами этими были мастурбация – которая “как хорошо известно, приводит к телесным и умственным расстройствам”, – и “продажный секс”, чреватый риском подцепить венерическую болезнь.
Было принято решение, на которое обрушились с яростными нападками некоторые священники и писатели, причем один из них назвал его “попыткой сделать грех безопасным”. Было решено создать два дополняющих друг друга учреждения: во-первых, “закрытую больницу”, то есть медицинскую клинику, восходящую к британским заведениям, где зараженных проституток содержали бы до полного выздоровления, а во-вторых, лал-базар – поднадзорный “квартал красных фонарей” для европейцев, где женщин регулярно подвергали бы врачебному осмотру.
Лал-базары предназначались для представителей британских низших классов, которые, согласно тогдашним воззрениям, менее способны контролировать свои физические желания, чем представители высших классов, и более склонны опускаться до уровня язычников-туземцев, которыми должны повелевать. Один исследователь насчитал семьдесят пять “военных городков” британской индийской армии, где была доступна “регламентируемая проституция”. Такая практика привела к возникновению более крупных заведений. В борделе города Лакхнау имелось пятьдесят пять комнат. Однако, как наглядно демонстрируют эротические пристрастия Клайва, Уэлсли и Охтерлони, множество колониальных гражданских служащих-аристократов и высокопоставленных офицеров тоже охотно “опускались” до упомянутого уровня. Не все они погружались в туземные обычаи так глубоко, как Охтерлони, но многие одевались в могольские наряды, курили кальяны и содержали любовниц-индианок – знаменитых биби, которые играли роль неофициальных жен, вели домашнее хозяйство, нянчились с сахибом, когда тот заболевал, и утоляли его сексуальные желания.
В этом отношении британская жизнь в Индии заметно отличалась от жизни в самой Британии – хотя, конечно же, не в том смысле, что секс был доступен в Индии и недоступен дома. В годы, предшествовавшие мощному натиску викторианской морали, секс в Британии был распространен достаточно широко, и молодые англичане, отправлявшиеся в Индию, ожидали его, требовали и без труда находили. Однако погоня за сексуальными удовольствиями в Индии была сопряжена с меньшими ограничениями, с меньшим официальным надзором и с большей свободой, и зримая чувственность самой индийской жизни, отражавшаяся в живописи и скульптуре, с которой были знакомы те европейцы, что получили лучшее образование и больше поездили по свету, оказывала воздействие на западное сознание. Некоторые колониальные гражданские чиновники и офицеры противостояли местным соблазнам. Немалое количество прославленных личностей колониальной эпохи, среди них Чарльз Гордон и Сесиль Родс, представали как будто бесполыми и воплощали один из идеалов колониальной эпохи – идеал великого человека, который отказывается от радостей семейной жизни ради служения короне и империи. Истина же в том, что многие колониальные чиновники, если не большинство, променяли традиционные семейные радости на куда более разнообразные сексуальные приключения и более волнующие ощущения, чем те, что могла бы предложить им традиционная домашняя жизнь. “Империя была Молохом, созданным людьми аморальной породы”, – заявлял автор уже цитировавшегося ранее письма в “Пэлл-Мэлл газетт”. Дело в том, что, как заметил один исследователь, говоря о британцах, “плодом” их соприкосновения с Индией стало “возникновение языческого, распутного, бесстыжего сословия бриттов, ничуть не скованных привычными рамками морали”.
А побуждали их к этому обстоятельства колониальной жизни – скука и пустота казарменной жизни и даже жизни в правительственных кругах, а также отсутствие иных видов развлечений. Дело усугублялось окружающей чувственной атмосферой Индии, где общество нисколько не порицало женщину, продававшую свое тело за деньги или за положение. В Европе не было недостатка в проститутках и любовницах, и некоторые образованные куртизанки даже добивались определенной славы, но все равно там их считали падшими женщинами, продавшими свою добродетель за горсть монет, нравственно опустившимися, грешницами и даже настоящими преступницами. Индийцы же гораздо терпимее относились к идее, что должно существовать особое сословие женщин, чье предназначение – удовлетворять мужское сексуальное желание, и что удовлетворение мужского сексуального желания – дело естественное и ничуть не зазорное. Разумеется, по сегодняшним меркам такое индийское отношение было глубоко унизительным для женщин. И все же есть смысл предположить, что на проститутках сказывалось отношение к ним окружающих. Если тебя воспринимают как нормального члена общества, отводят тебе место в живописи, скульптуре и литературных трудах твоей страны, то, надо полагать, ты будешь испытывать определенную гордость, которой не может быть у оскорбляемых женщин, приравниваемых к преступницам.
И такое обстоятельство объясняет расхожее мнение, до сих пор разделяемое западными мужчинами в Азии, многие из которых ни за что не пошли бы к проституткам у себя на родине, зато регулярно наведываются к ним, когда бывают на Востоке. Отчасти они поступают так оттого, что всегда легче предаваться греху вдали от назойливых глаз людей, которые тебя знают. Тайцам в этом смысле присуща традиционная мудрость: никогда не ходить к проституткам в своем районе. Но европейцы, австралийцы и американцы, которые никогда не пошли бы к проституткам у себя на родине, посещают их в Азии еще и оттого, что азиатские проститутки не похожи на западных, имеющих репутацию порочных, корыстных, холодных, развращенных и слегка устрашающих. Действительно, они производят впечатление милых, приятных, не испорченных деловыми ухватками большинства продажных “жриц любви” на Западе. Конечно, здесь имеется и некоторый самообман со стороны западных мужчин, потому что какая-нибудь тайская девушка из бара делает все за деньги точно так же, как ее “коллега” в Париже или Нью-Йорке, однако такому самообману в значительной степени способствуют сами проститутки – очаровательные, готовые угождать, похожие на кошечек и в то же время искусные.
Так или иначе, чего бы ни было больше в этом представлении об азиатских проститутках, самообмана или правды, многие мужчины, несомненно, убеждены в его верности, и многие британцы в Индии наверняка воспринимали точно так же женщин в колониях, предлагавших им сексуальные удовольствия. Лучшие проститутки – те, что брали за услуги пять рупий, а не две, – “совсем не похожи на своих “сестер” по ремеслу из европейских стран”, – писал Эдвард Селлон, донжуан (по собственному определению), который в XIX веке провел некоторое время в Индии армейским капитаном. “Они не пьют спиртного, они чрезвычайно чистоплотны, нарядно одеты, носят множество дорогих украшений, они хорошо образованны и мелодично поют, аккомпанируя себе на виоле да гамбе, инструменте вроде гитары, а еще они обычно украшают волосы пучками ломоноса или сладко пахнущими цветами билва, в которые вплетены жемчуга и алмазы”.
Селлон восхищался индианками по многим причинам, и не в последнюю очередь потому, что они сбривали или выщипывали лобковые волосы, так что, если не обращать внимания на полноту их бедер и грудей, “можно вообразить, будто тебе досталась еще незрелая девочка”. В целом же Селлон, проживший в Индии десять лет, высказывал мнение, поддерживавшееся Ричардом Бёртоном и другими, что индианки “понимают в совершенстве все приемы и хитрости любви, способны угодить любым вкусам, а красотой лица и фигуры не уступают женщинам других народов мира”.
Некоторое время Селлон жил в доме, выходившем окнами на школу для девочек-полукровок – “орехово-коричневых девиц”. Он пересказывал разговор со своим дворецким о том, как бы раздобыть для утех одну из этих девиц. Этот разговор довольно достоверно иллюстрирует сложившуюся в Индии обстановку: белый человек осознавал собственное превосходство и считал, что индийские девочки должны быть доступны ему, что достаточно сговориться и отсчитать деньги. “Если полковник-сахиб, или майор-сахиб, или другой бурра-сахиб [большой человек] глядеть вон туда, – сказал дворецкий, кивнув в сторону школы для девочек, – и он велеть: “Ступай приведи мне такую девчонку”, – ну, это бхоте брабхер [очень пристойно]. Я говорить ему: “Бхоте еуча, сахиб” [очень хорошо, господин], – и бежать старуха-начальница и говорить: “Бурра-сахиб хотеть такая девочка, надень на нее покрывало и пусти ее”. Тогда старуха-начальница спрашивать: “А деньги у тебя есть?” “Да-а-а! – отвечать я, – Сколько рупий? Очень хороший бакшиш, мэм, пятьдесят рупий”. “Пятьдесят рупий – это мало, надо восемьдесят рупий, ты говорить полковник-сахиб, что это девственница”.
Как рассказывал Селлон, дворецкий действительно отправился к начальнице школы, чтобы выторговать у нее ту девочку, на которую Селлон положил глаз. Они заключили сделку, и в тот же вечер начальница пришла к нему домой и привела, пишет он, “прелестницу обнаженной”. За этим, продолжает Селлон, последовала “самая восхитительная ночь”, и его “подружка” даже пообещала убежать из школы и последовать за ним в Канпур, куда ему вскоре предстояло отправиться в свой полк. Однако этому не суждено было произойти, потому что командир полка узнал о “победе” Селлона и возмущенно заявил директрисе школы, что та отдала одну из самых красивых своих учениц одному из его подчиненных, а не ему самому. За этим последовала безобразная история. Полковник потребовал, чтобы к нему привели девушку Селлона. Ее привели, а когда она отказалась исполнять его желания, он приказал слугам привязать ее к кровати, а потом изнасиловал. Преступление привело к военно-полевому суду и тюремному заключению. Так, по крайней мере, сообщал Селлон, и при этом нельзя сказать, чтобы его сильно потрясла эта история или что ему была небезразлична судьба самой девушки-индианки, которую он называл Лиллиас. После рассказа о случившемся он быстро и весело перешел к рассказу о Канпуре, где, как он сдержанно выразился, “я начал регулярно спать с туземными женщинами”.
Каковы же были причины этой удивительной взаимосвязи секса с империей? Разумеется, главной причиной можно назвать само присутствие в Азии западных мужчин с туго набитыми бумажниками в поисках удовольствий, а также желание восточного общества предоставить им эти удовольствия – разумеется, за деньги. Богачи-иностранцы оказывались среди множества хорошеньких бедных девушек в таких местах, где существовала давняя традиция отдавать этих хорошеньких бедных девушек для обслуживания сексуальных потребностей богачей. В городе Хошимине (бывшем Сайгоне) я спросил Нгуена Нгока Луонга, бывшего переводчика и репортера при вьетнамском бюро “Нью-Йорк таймс”, который жил здесь с 1954 года, почему бары и кабаре, дансинги и массажные салоны сосредоточены на большой улице, идущей приблизительно от колониального губернаторского особняка до реки Сайгон, а также поблизости. Раньше, при французах, эта улица называлась рю Катина, а потом, когда в Сайгоне оказалось много американцев, была переименована в улицу Ту До (Свободы). Он ответил, что именно вблизи центров власти и торговли удобнее всего было общаться представителям высшего и низшего общества.
“Вот здесь стоял дворец Нородом, где размещалось ведомство генерал-губернатора Индокитая, – сказал он, рисуя грубую схему Сайгона, каким тот был в годы французского режима. – Рядом стояло здание суда, а за ним – полицейское управление. Неподалеку был собор. С другой стороны располагались французские школы – школа имени Шаслу-Лоба для мальчиков и школа имени Марии Кюри для девочек, а за ними – спортивный клуб с теннисным кортом и бассейном”. Прямо напротив дворца Нородом находились главные отели – “Каравелла” и “Континенталь”, а рядом располагались рестораны и кафе. Естественно, уличных девиц тянуло в этот квартал, и поблизости открывались ночные клубы и кабаре. Ведь здесь крутились представители колониальной власти и торговцы, так с чего бы девицам, чьими услугами те с удовольствием пользовались, держаться где-то вдалеке?
Французы в колониях славились особенной необязательностью в соблюдении законов, действовавших у них на родине. Хорошим примером может служить Шанхайская французская концессия. Шанхай, и без того почти беззаконный, – своего рода безопасная гавань для банд, опиумных притонов, азартных игр и проституции. И все эти пороки наиболее пышно расцветали в тех двух районах города, на которые по условиям неравноправных договоров середины XIX века иностранцы получили экстерриториальные права, в том числе право иметь собственные полицейские подразделения и суды. Китайские законы не распространялись ни на Французскую концессию, ни на Международное поселение, в основном подвластное британцам. Возникает вопрос: отчего пороки разрастались особенно буйно именно в тех районах, которые контролировались сравнительно законопослушными и сексуально консервативными европейцами? Ведь у себя на родине, как мы видели, европейцы громогласно возмущались интимными связями соотечественников с “язычницами” и отправляли на Восток всяческих социальных реформаторов, чтобы те жестко искореняли пороки и ошибочные религиозные верования. Разумеется, строителям империи куда больше нравилось пользоваться запретными вольностями в колониях, чем заниматься внедрением там христианской морали, – это они предоставляли своим более совестливым компатриотам. Большой приток иностранцев скорее сгущал, чем разреживал ту атмосферу, в которой издавна прочно укоренилась гаремная культура. Они притащили с собой весь ширпотреб городской жизни – свои кинофильмы, кинозвезд, специфическую культуру обожания знаменитостей, губную помаду и румяна и, конечно, деньги, которые собирались тратить на ночные развлечения. Присутствие такого количества европейцев, которые внезапно освободились от запретов, действовавших у них на родине, приводило к появлению новых казино и игорных домов, дансингов, ипподромов, театров и ночных клубов, где они могли веселиться вместе с состоятельной китайской элитой, освободившейся от надзора собственного правительства. “К 1936 году на территории одних только иностранных концессий в Шанхае насчитывалось более трехсот кабаре и казино”, – писал историк Фредерик Уэйкман. Китайцы любят азартные игры – и вот иностранцы, которые тоже их любили, предоставили в их распоряжение просторные, кричаще-яркие казино, причем самые большие и роскошные из них часто располагались при консульствах латиноамериканских стран в Шанхае (это позволяло им не подпадать под действие китайских законов). Самое крупное казино, “Фушэн” на Фош-авеню на территории Французской концессии, “даже предоставляло своим клиентам, игравшим по-крупному, лимузин последней модели с шофером, который довозил их до заведения, а потом отвозил домой”, – сообщает Уэйкман.
Иностранные концессии, которые, учитывая милитаристские настроения и общественные беспорядки, царившие в Китае на протяжении почти всей поры расцвета Шанхая, вполне могли выказывать больше рвения в борьбе с преступностью, на деле становились настоящими рассадниками преступности. Особенно процветала торговля опиумом и проституция. Преступникам, которых разыскивала китайская полиция, достаточно было перейти границу Французской концессии или Международного поселения, чтобы оказаться вне зоны действия китайского закона. Такой порядок вещей сохранялся даже после 1928 года, когда революционное националистическое правительство во главе с Чан Кайши, охваченное желанием преобразить не только политический, но и моральный облик Китая, попыталось покончить с пороками. Одна англоязычная газета отмечала противоречие между “провозглашенными основаниями для сохранения нынешнего иностранного режима в Шанхае”, а именно заявлениями о том, что город достанется собакам, если его будут контролировать китайцы, – и реальным положением дел, то есть “картиной публичной проституции”, гораздо более масштабной, чем в каком-либо другом китайском городе.
Иностранные концессии в Шанхае служили очагами не только “нормальных” преступлений вроде проституции или торговли наркотиками, но и таких ненормальных, как продажа девушек и женщин в сексуальное рабство. Некоторых жертв – а большинство из них попадали сюда из нищих китайских деревень – продавали собственные родственники, других похищали, и до той поры, когда похищенных можно было продать в бордели, их прятали на конспиративных квартирах на территории Французской концессии, в домах, замаскированных под маленькие гостиницы. Реакция иностранцев на такое нравственное разложение была крайне непоследовательной. Между 1913 и 1917 годами общественные благодетели освободили больше десяти тысяч женщин и детей, проданных в бордели. Позднее Лига Наций, объявившая Шанхай крупнейшим очагом проституции, побудила колониальные власти оказать ей противодействие, однако эти же власти только в 1939 году выдали 1555 лицензий на открытие борделей.
Управлявшееся британцами Международное поселение в этом отношении не было образцом неподкупности, и все-таки дела во Французской концессии обстояли еще хуже. “В настоящее время наблюдается тенденция: стоит только выявить в Международном поселении какую-либо социально неблагополучную активность, как она немедленно перемещается в Французскую концессию, где спокойно приживается. Таким образом, Шанхайская французская концессия превратилась в нравственном смысле в самое грязное место на всем Востоке”, – писал в 1932 году один журналист. Без сомнения, в попустительской позиции Франции проглядывалось расистское убеждение, что в колониях все равно должны бытовать другие моральные устои, что это естественно. Однако именно эти моральные устои очень полюбились иностранцам, жившим в колониях и наслаждавшимся тамошними возможностями. “Шанхай предлагал холостяку все виды удовольствий и развлечений, о каких тот мог мечтать”, – писал Эрнест Хаузер в “Продажном городе”. “Праздничный” разгул продолжался там и в годы смуты и революции, между падением Маньчжурской империи в 1911 году и коммунистическим переворотом в 1949-м. Империя выражала протесты, как формальные, так и искренние, однако в целом империалистов вполне устраивало существовавшее положение вещей.
Более того, напрашивается вывод, что порочность империи была не просто ее побочным эффектом, неким дополнительным удобством, но необходимым условием ее функционирования. Рональд Хайам из Кембриджского университета утверждал, что сексуальные отношения между британцами и индианками “играли важную роль в поддержании функционирования Британской империи и викторианской экспансии”. Конечно, империя создавалась не для того, чтобы британцы могли спать со смуглыми девушками, да и само стремление открывать Восток и завоевывать там славу для своей страны проистекало не от избытка сексуальной энергии. Однако доступность секса с туземками значительно облегчала содержание обширных военных и бюрократических организаций, необходимых для управления колонизованными территориями. Несомненно, именно по этой причине колониальные и постколониальные власти, будь то британцы в Индии или американцы во Вьетнаме, никогда не пытались навязать Востоку те сексуальные нормы поведения, которые существовали у них на родине. Конечно же, этим эротическим возможностям способствовала гаремная культура вкупе с нищетой местного населения, но западных политических и военных лидеров устраивало то, что их солдаты и чиновники могут пользоваться этими возможностями. “Экспансия Европы сопровождалась не только распространением “христианства и торговли”, – писал Хайам, – но и повсеместным распутством и внебрачными связями”.
Поэтому трудно было бы найти колонизованную территорию, которая не подверглась бы в некоторой степени не только военной и торговой, но еще и сексуальной колонизации, и не в рамках официально проводимой сознательной политики, а просто в силу стихийных законов, которые действуют в мире. Этим объясняется, например, почему Шанхай, находившийся преимущественно под иностранным контролем, сделался, по выражению Уэйкмана, “порочной столицей мира”. Этим же объясняется, почему на противоположном конце земли, в Вест-Индии, лишь в исключительно редких случаях белый мужчина обходился без черной наложницы. “Несть числа таким мужчинам любого звания, рода и сана, кои предпочитают сии необузданные козлиные объятья чистому и законному блаженству, проистекающему из супружеской взаимной любви”, – с горечью писал в XVIII веке о британской колонии Ямайке Эдвард Лонг, сторонний наблюдатель.
Сексуальная эксплуатация в ее худшей форме являлась приложением к рабству, причем приложением неизбежным. “Не бывает рабства без сексуальной распущенности”, – писал Жилберту де Меллу Фрере, великий бразильский социолог. Фрере имел в виду именно бразильское рабство, но его высказывание прекрасно подходит и к другим странам. В голландской колонии Кейптаун в Южной Африке, как отмечал Хайам, главным борделем было общежитие для рабов. Сама гаремная культура, будь то в Китае, Османской империи или империи Великих Моголов, питалась рабством, хотя рабство и не являлось неотъемлемой частью сексуальных возможностей, предоставлявшихся Востоком Западу. Эти сексуальные возможности в изобилии существовали в таких местах, где колониальные власти отнюдь не вводили рабства, вроде французского Индокитая или британской Индии, и даже принимали меры, направленные на искоренение дурного обращения с женщинами. Так, например, в Индии был запрещен древний обычай сати. Взаимодействие колонизаторов и колонизованных было пропитано эротикой, и этот факт имел как самые грубые и зримые, так и тонкие, едва уловимые последствия. В XIX веке во французском Индокитае ме-тай – так называли местных вьетнамских женщин, которые играли роли жен и любовниц французских солдат и чиновников, – сделались новой влиятельной кастой в силу своей близости к представителям иностранного режима. Задокументированы такие слова вьетнамского крестьянина: “Если вы попадете в беду, то вам нужна мисс Хай [проститутка] – она отведет вас к судьям, только так дело можно уладить”. Излишне говорить, что такое положение дел заметно подрывало традиционный авторитет вьетнамских деревенских старост.
И во французских, и в британских колониях такие фигуры, как любовница из местных, мелкий служащий из местных и солдат-рекрут из местных, стали неотъемлемыми элементами системы подчинения. Они помогали осуществлять управление территориями, население которых значительно превосходило численностью население родной страны колонизаторов. В первые десятилетия своей деятельности в Индии Ост-Индская компания, подобно первым португальским чиновникам в Гоа, официально поощряла браки между британскими солдатами и индианками, чтобы создать некий “фонд” родившихся здесь, в колонии, мальчиков, которым в будущем предстояло служить солдатами. Каждому такому ребенку компания выдавала денежный “крестильный” подарок. Французы тоже часто женились на местных женщинах, хотя гораздо чаще, чем в Северной Африке, это происходило в Индокитае, где ислам не одобрял браков с немусульманами. Там обычно в любовницы брали местных женщин. Подобно британцам в Индии французы в Северной Африке создали целую систему борделей возле военных лагерей, исходя из тех же соображений. Они хотели держать проституток под надзором, чтобы по возможности контролировать распространение венерических болезней, а еще им хотелось уменьшить контакты с местными жителями, лишив их стимула докучать “милым” местным девушкам.
Одна французская исследовательница, изучавшая североафриканскую ситуацию, пришла к выводу, что, когда в таких странах, как Алжир, были введены бордели, так сказать, европейского типа, “на смену традиционному мусульманскому рабскому рынку пришла проституция французского образца”. Ни один человек, озабоченный проблемой равноправия женщин, не назвал бы слишком прогрессивными сексуальные порядки, бытовавшие в Алжире до прихода французов. Порядки эти основывались на прерогативе мужчин иметь до четырех жен и неограниченное количество наложниц в придачу (столько, сколько они могли прокормить), а наложниц, как сообщает историк Кристель Таро, “обычно покупали на рынке рабынь, куда они попадали из районов Африки, лежавших к югу от Сахары”.
Потому-то проституция европейского типа – с уличными девицами и публичными домами – была практически неизвестна в Алжире, где у мужчин имелся совершенно иной способ утолять желания, помимо своих жен. С приходом французов картина изменилась. Они отменили рабство, но это, казалось бы, безусловно положительное новшество на деле означало, что многие бывшие рабыни в Алжире, “освобожденные” из гаремов, были вынуждены работать проститутками на новую французскую систему. Вот так освобождение! Французы понимали, что исламское сознание будет оскорблено видом мусульманок, обслуживающих мужчин-гяуров, и потому они обязали проституток жить в “особых кварталах”, отгороженных от остального североафриканского общества. Но это не помогло. “В глазах местных жителей”, заключала Таро, французский метод предоставления сексуальной разрядки солдатам и чиновникам “являл самую суть колонизации, так как попирал местные традиции, установления и общественные нормы”. Когда алжирские националисты создали Фронт национального освобождения и начали войну против французов, то проституция в том виде, в каком ее ввели французские власти, стала расцениваться как “телесный коллаборационизм”, и случалось даже, что в некоторые бордели, обслуживавшие французских солдат, бросали бомбы.

Французская открытка из Алжира. Ок. 1920. University of Minnesota Press
Точку зрения националистов – что проституция при французах стала специфически колониальным унижением – понять легко. Действительно, когда в 1946 году французы запретили и закрыли контролируемые публичные дома в самой Франции, то этот новый закон не распространился на североафриканские колонии на том основании, что они представляли собой “случай низшей цивилизации”, – разумеется, это было очередное оскорбление национальных чувств. Гораздо труднее провести моральную границу между традиционным сексуальным рабством, существовавшим в Северной Африке раньше, под властью Османской империи, и той проституцией европейского типа, которую принесли с собой французы. Как бы то ни было, если не считать борделей, учрежденных колониальными властями, североафриканская гаремная культура прекрасно приспособилась к появлению европейцев, имевших и желания, и деньги для их удовлетворения. Как сказал французский писатель Эрнест Фейдо, прославившийся в основном своей эротической комедией нравов “Фанни”, “французы прибыли в Алжир, алча мавританок”. Одной специфически французской страстью стал выпуск открыток, изображавших так называемых femmes Mauresques, мавританок, во всевозможных сладострастных и томных позах. Открытки были якобы сняты в тех самых гаремах, которые всегда оставались недоступными для сгоравших от любопытства европейцев.
Эти почтовые открытки выпускались тысячами и тысячами же отсылались на родину, в la métropole, туристами, которые приезжали сюда из Европы, чтобы погреться на пляжах и полюбоваться крепостями и старыми городскими кварталами Магриба (так французы называли мусульманские страны Северо-Западной Африки). Эти постановочные снимки для тиражирования на открытках делали французские фотографы, и сегодня сами алжирцы высказываются о них с осуждением, видя в них орудие пропаганды европейских фантазий о восточных женщинах, или, как выразился алжирский исследователь Малек Аллула, “ту сладостную мечту, в которой Запад барахтался больше четырех веков”. По его словам, эти фотографии служили “фантастическими иллюстрациями западных представлений о Востоке”. Далее он пишет: “Впрочем, не бывает фантазий без секса, и в этом ориентализме, в этом смешении лучшего с худшим – а худшего там гораздо больше, – появляется главный образ, сущее воплощение наваждения – гарем”.
В мире, который осуждает колониализм как преступление против человечества, сама идея использовать “мавританок” для того, чтобы дразнить воображение западных мужчин, выглядит, по словам Аллулы, “бесчестной и бесчестящей”. Разумеется, подобные фотографические выдумки носили однонаправленный характер и потому воплощали право Запада творить все, что ему угодно, в покоренных им землях, в том числе и использовать местных женщин и для своего удовольствия как непосредственно, так и косвенно, с помощью таких вот постановочных снимков. Фотокарточек француженок в соблазнительных позах, которые отсылали бы домой из Франции алжирские путешественники, не существовало в природе по той простой причине, что во власти французов было предотвратить их появление. Мавританки попали под пристальный надзор французов, как и весь Алжир. А интерес колонизаторов к колонизованным в значительной мере носил сексуальный характер. Это особенно наглядно иллюстрирует одна открытка. На ней изображен мужчина, который смотрит на женщину сквозь зарешеченное окно. Эта решетка, по-видимому, намекает на то, что женщину держат в тюрьме. Грудь женщины обнажена, глаза опущены, а поза выражает смирение и покорность. На голове женщины повязан цветной платок, спадающий назад и исчезающий за ее обнаженным плечом. Как почти у всех наемных моделей, позировавших для подобных открыток, лицо у нее открыто, и эта деталь – пожалуй, самое важное указание на право колонизаторов подвергать колонизированных тщательному осмотру. Алжир, разумеется, был мусульманской страной, и женщин там прятали от любопытных взглядов посторонних. Из всех мужчин лишь мужу и сыновьям женщины позволялось видеть ее лицо. Но колонизированный народ утратил право прятать своих женщин, а колонизаторы, напротив, обрели право выставлять их на обозрение.
Болезненная и гневная реакция алжирцев на подобные снимки в постколониальную эпоху вполне понятна. Однако объявлять, что такие изделия, как открытки с мавританками, отражают одни лишь западные фантазии и наваждения, значит ограничиваться лишь одним ракурсом из многих возможных. Ведь эти открытки, предлагавшие чрезвычайно эротизированные образы, намекавшие на существование некоего сексуального рая, рассказывают правду не столько о мавританках, сколько о сексуально подчиненном статусе самих колоний в целом. Для французов, оккупировавших Индокитай и Северную Африку, любые сексуальные фантазии запросто могли претворяться в реальность – и претворялись. В Сайгоне французы, чтобы подыскать себе красотку на ночь, а иногда и на всю жизнь, отправлялись в такие места, как Arc en Ciel (“Радуга”) и другие ночные заведения, многие из которых император Бао Дай отдал под контроль преступных банд. Героиня романа Грэма Грина “Гадкий американец”,[18] роковая женщина, появилась именно из подобного заведения, и Грину, похоже, удалось очень точно запечатлеть жизнь Сайгона, какой та была в начале 1950-х, когда французский режим уже готов был уступить место американскому. Вообразите себя молодым человеком во Вьетнаме в 1930 или 1950 году: вы можете когда вздумается потанцевать с красивой надушенной девушкой с черными как смоль волосами, падающими на ее белое шелковое ао-дай – традиционное вьетнамское женское платье прямого покроя. А после того, как вы натанцуетесь, она пойдет к вам и проведет ночь в ваших объятиях. Фантазия? Да, конечно, это можно назвать просто мечтой. Но многие французы и другие европейцы видели в Индокитае и Северной Африке сказочные края, где можно осуществлять какие угодно эротические грезы, в том числе и такие мечтания, которые у них на родине считались извращениями, о каких даже упоминать зазорно.
Отступление четвертое
Тайная жизнь в Алжире и Париже
Ее зовут Рама, хотя любовник-француз называет ее Рам, ей “около четырнадцати лет, у нее прямые плечи, недавно налившиеся груди, крепкие ступни, а глаза способны воспламенить тюк соломы с десяти метров”. Люсьен Олиньи, одинокий скучающий офицер французской колониальной армии, замечает ее, проезжая по деревне в южном Марокко. До этой роковой встречи с Рам Олиньи приходилось пользоваться услугами “грубой и потасканной арабской шлюхи” по имени Фтум, к которой “ходят и другие” во французском военном лагере в жалком городишке Бирбатина. И вот теперь он просит местного торговца познакомить его с этой огненноокой девушкой. И предлагает цену. Ответ Рамы становится известен на следующий день, а еще через день у них с Олиньи происходит первое свидание.
“Все произошло так, словно он покупал лошадь”, – говорит рассказчик в начале этой истории. Однако то, что начинается как вульгарная история о продажной любви, превращается в мощную и даже горькую эротическую драму, нечто вроде “Лолиты”, только на фоне пустыни, в странных декорациях французской колониальной жизни в Северной Африке. С одной стороны, роман L’histoire d’amour de la rose de sable,[19] в английском переводе получивший название “Любовь в пустыне”, просто облекает в художественную форму тот реальный факт, что французский колониализм, как и британский, порождал свои разновидности непреодолимых соблазнов, которыми Восток притягивал западных мужчин. Уговор Олиньи с Рам являлся mariage à l’indigène, “туземным браком”, как в реальной жизни называли это французы, то есть обоюдно выгодным партнерством, всегда заключавшимся между мужчиной-европейцем и туземной девушкой или женщиной (и никогда между мужчиной-туземцем и европейской женщиной) и лишенным всей полноты прочной романтической любви и дружбы.
А поскольку в этом “туземном браке” между Олиньи и Рам любовница к тому же малолетняя, “Роза песков” иллюстрирует еще одно измерение колониальной жизни, предлагавшей западным мужчинам такие возможности, которые оставались под запретом у них на родине. Наверное, многие мужчины предавались бесплодным фантазиям о девочке с “недавно налившимися грудями”, с кожей “атласной гладкости”, с дыханием, пахнущим “пряностями и апельсинами”, но, скорее всего, мало кому предоставлялся случай осуществить подобные мечты. Не надо забывать, что “Роза песков” – роман, художественный вымысел. И все же в этом скабрезном повествовании о жизни французской армии в Северной Африке наиболее поразительным кажется именно педофильский момент. А историческая правда состоит в том, что не только в литературе, но и в жизни педофильские связи являлись одним из “товаров”, предлагавшихся колонизованным Востоком колонизатору Западу.
“Некоторое время позволялось абсолютно все – даже то, чего никогда не разрешили бы на Западе, например влечение к юным, даже слишком юным девочкам, – писал один французский исследователь, соотносивший литературные описания жизни европейцев в Северной Африке со сложившимися там общественными реалиями. – То, что вызвало бы скандал у них на родине (сегодня педофилия отнесена к серьезным преступлениям), на Востоке в самом крайнем случае воспринималось неоднозначно”.
В действительности “Роза песков” – тонкое, сложное и неожиданное литературное произведение, нечто гораздо большее, нежели просто эротическая фантазия, разворачивающаяся на фоне пустыни, и ее автор трактовал тему педофилии довольно легко – просто как обычную составляющую жизни в тех далеких краях, которые стали частью французской колониальной империи. Чем бы мы ни считали связь между Олиньи и Рам, преступлением или нормальным союзом, это в любом случае не отношения между всемогущим европейцем и покорной, беспомощной малолетней проституткой. В тайных рамках этого “туземного брака” Рам тоже обладает определенной властью и пользуется ею, оказывая своего рода пассивное сопротивление. Она согласилась стать любовницей Олиньи только на том условии, что он поклянется не лишать ее девственности, и это привносит в их историю определенное сексуальное напряжение: оказывается, не только она подчиняется Олиньи, но и Олиньи ей. Ему разрешается ласкать руками и губами обнаженное тело Рам, но ему-то хочется от нее ответной любовной страсти, а она долгое время не позволяет ему полностью овладеть ею, он долго не получает от нее желанного отклика.
“Розу песков” воспринимали как антиколониальный роман отчасти потому, что в нем арабская девочка наделена цельным характером, что явно шло вразрез с отстраненно-высокомерными стереотипами, господствовавшими во французском колониальном сознании. Поначалу Олиньи озадачен поведением Рам: она кажется ему слишком вялой и пассивной по сравнению с какой-нибудь европейской девушкой, однако со временем он начинает любить ее именно за эти качества. Вот еще одна иллюстрация того, что западный мужчина видит больше женственности в восточной девушке, чем в западной, и выше ставит ее отклик на мужскую любовную страсть. В Рам нет ни малейшей суетливости, нет чувства вины или раскаяния, нет кокетства, нет лукавства, нет требовательности, нет никаких социальных претензий и духа соперничества. Она ведет себя как совершенно естественное существо, хотя и умеет обращать собственную слабость в силу. Благодаря Рам Олиньи улавливает то, что кажется ему непризнанным величием арабской души, а потому – опять-таки благодаря Рам – он начинает мыслить по-другому и внутренне восстает против французской колониальной идеологии.
“Роза песков” – действительно антиколониальное произведение, только в другом, более интересном отношении: оно изобличает во лжи официальное оправдание колониальной деятельности Франции, а именно что та якобы совершалась для того, чтобы одарить благодатью просвещения живущих во мраке туземцев, – вот она, знаменитая цивилизаторская миссия. Лицемерие этой позиции показано на примере Олиньи: вначале он изображен типичным французским патриотом, начитавшимся типичных французских книжек, которые предписывали ему как солдату роль героя, готового пожертвовать собой. Но связь с Рам выявляет лживость той картины, которую создавали сами французы, изображая свою жизнь в колониях. Ведь французы, остававшиеся на родине, в “метрополии”, слали письма и подарки своим отважным молодым воинам, служившим в Северной Африке, желая облегчить их якобы суровое и унылое существование, начисто лишенное домашнего уюта. Тогда как в действительности французы в Северной Африке развлекались с малолетними любовницами, за что во Франции их преследовали бы по закону. Воистину цивилизаторская миссия!
Но, пожалуй, самое интересное в книге “Роза песков” – это ее автор, Анри де Монтерлан. В англо-американском мире его имя не значится среди крупнейших литературных имен XX века, зато во Франции его ценят как одного из величайших писателей столетия, ставя наравне с Андре Жидом и Альбером Камю. Его североафриканский роман, материал для которого он собирал в течение пяти лет, проведенных в Алжире, когда ему было немного за тридцать, – один из его первых романов, но по причинам, которые остаются не вполне выясненными, писатель опубликовал его лишь после Второй мировой войны. Сам Монтерлан называл эту книгу разоблачительной, вскрывающей ту правду о французском колониализме, которую долго утаивали, и это действительно так. Но вместе с тем эта книга и сама кое-что утаивает и, более того, является лишь одним из звеньев в цепочке тайн длиной в целую жизнь, элементом лжи, совершавшейся путем сознательного замалчивания, потому что Монтерлан, пусть он и задумывал эту книгу как осуждение французских колониальных предрассудков в романной форме, в свои алжирские годы сам занимался активной, безостановочной, маниакальной охотой на сексуальную колониальную добычу. Правда, в его случае предметом педофильского интереса являлись не девочки, а мальчики.
Северная Африка открыла для Монтерлана необъятное царство пьянящей сексуальной свободы. Годы, проведенные там, определили его сексуальную ориентацию, которую впоследствии он сохранял, держа ее в тайне до самой смерти. Считается, что лишь три человека знали настоящего Монтерлана и его одержимость мальчиками. Случай Монтерлана свидетельствует сразу о двух фактах: во-первых, что наряду с коммерческой выгодой и национальной славой важным стимулом длившейся десятилетия деятельности Франции в колониях являлись сексуальные связи, и во-вторых, что французские колонизаторы предпринимали ревностные ханжеские попытки опровержения таковых связей.
Монтерлан был одной из самых интересных и тревожных литературных фигур во Франции XX века, блестящим охотником за приключениями и романистом, получившим практически все высшие награды, какие только могла вручать Французская республика. Он был удостоен ордена Почетного легиона, а в 1960 году стал членом сверхпрестижной Французской академии, пополнив тем самым количество “бессмертных” представителей французской культуры. Его биография как будто вобрала в себя элементы биографий Хемингуэя, Ницше и Муссолини. Одно из его первых произведений – “Погребальная песнь в честь павших при Вердене”, прощальная речь о солдатском героизме: сам Монтерлан был ранен на Первой мировой войне и получил награду, будучи еще совсем молодым человеком.
Прежде всего Монтерлан восхвалял мужественность и презирал все, что казалось ему чересчур женственным в европейской среде. В юности он учился искусству корриды и однажды, упражняясь на ферме в Испании, получил удар рогами. И, что менее похвально, наряду с несколькими другими писателями своего поколения, наиболее заметными из которых были Луи-Фердинанд Селин и Робер Бразильяк, он приветствовал разгром Третьей республики нацистами в 1940 году, хотя не столько по причине явной симпатии к нацистам, сколько по причине, как выразился один критик, своего родства с “эстетикой фашизма”. Французская демократия представлялась Монтерлану чем-то вроде женской заурядности, или, как он сам выразился в речи 1938 года, “моральным кодексом продавщицы”.
Для описания того, что Монтерлан считал высшим человеческим свершением, он использовал понятие “бессмысленное служение”. Он имел в виду желание человека погибнуть за дело, в которое тот не верит, сознавая, что истинное величие обрести невозможно: пожалуй, глупейшая, напыщенная идея, нелепое ницшеанство. Такой же нелепостью кажется и деятельность Монтерлана во время немецкой оккупации: он сочинял пьесы, которые ставились в театре “Комеди Франсэз”, а кроме того, выказал дурной тон, рассуждая в финансировавшемся нацистами журнале La gerbe (“Ливень”) о “низших европейцах” – и это в то самое время, когда самозваная “высшая раса” истребляла евреев и других европейцев якобы “низшей породы”. После войны Монтерлана обвинили в сотрудничестве с врагом, хотя назначенный ему приговор оказался чересчур мягким, почти символическим: ему запретили публиковать свои произведения в течение одного года.
Это случилось, конечно же, спустя многие годы после того, как он написал “Розу песков”, восходившую, в свой черед, к периоду его жизни в Северной Африке с 1927 по 1932 год. Именно в Северной Африке Монтерлану впервые в жизни представилась возможность удовлетворять свои гомосексуальные желания, что он впоследствии, по возвращении во Францию, где он прожил еще сорок лет, до самой смерти, продолжал делать, уже тайно, подвергаясь большому риску. В этом нет ничего удивительного. Это сейчас, после многих лет гражданской войны, военной диктатуры и возрождения консервативного, ультрапуританского ваххабитского движения внутри ислама на Ближнем Востоке, Алжир уже никому не представляется таким местом, куда можно поехать для того, чтобы приятно провести отпуск под пальмами. Но с 1890-х по 1930-е французская Северная Африка была настоящим туристическим раем с оазисами среди пустыни, базарами, тенистыми садами и мавританской экзотикой, и эти края красочно описывались в путеводителях, их посещали в каникулы состоятельные европейцы. Правда, путеводители для туристов умалчивали о том, что в Магрибе богатство и власть открывали путь еще и к эротическим удовольствиям. Это была территория сексуальной свободы, кривое зеркало для запретов, господствовавших в христианских странах. Большинству “секс-туристов” гаремная культура предлагала насладиться красотой юных дев, для чего не требовалось ни любви, ни брака, ни законных обязательств европейского типа. Гомосексуальному меньшинству она предлагала юношей. И, как это всегда бывало на Востоке, здесь, в Северной Африке, европейцы тоже без труда приноравливались к уже существовавшим порядкам, ведь в арабской и других мусульманских культурах Ближнего Востока и Южной Азии педерастия давно укоренилась, и к ней относились терпимо. Северная Африка приобщила к своим обычаям и европейцев. А поскольку колонизаторами Северной Африки были французы, то именно они стали главными получателями этой благодати. Поэт У. Х. Оден даже ввел в обиход слово “гоминтерн” для обозначения этого гомосексуального международного братства, зародившегося в колониальную эпоху.
Французский писатель Андре Жид, который был старше Монтерлана на тридцать семь лет, бывал в Алжире в 1893-м и с 1894 по 1895 год, и в его автобиографии описан один вечер в Алжире [городе] в компании Оскара Уайльда. Несколько французских и британских интеллектуалов встречались, чтобы сообща насладиться прекрасной погодой и эротическими приключениями. В тот самый вечер лорд Альфред Дуглас, любовник Уайльда, заявил, что собирается поехать в Блиду – обнесенный стеной городок в тридцати милях от столицы, где они с Уайльдом бывали раньше. В Блиде размещался французский военный лагерь, и туда европейцы отправлялись ради долгих прогулок с местными юношами в апельсиновых рощах за городскими стенами. Дуглас намеревался “умыкнуть” юного кауаджи, подавальщика кофе, который приглянулся ему еще в прошлый раз, когда они ездили туда вместе с Уайльдом. И вот, оставшись вдвоем, Уайльд с Жидом коротали вечер, обходя кафе и музыкальные бары в старом городе. И Жида (который осознал свою гомосексуальность позже, чем Уайльд) ожидал экстатический эпизод, преобразивший всю его жизнь и завершившийся в предрассветные часы долгим и упоительным свиданием с юношей-музыкантом. Спустя десятилетия, в 1931 году, снова приехав в Алжир, Жид некоторое время делил кров с Монтерланом, хотя, похоже, Монтерлана отпугнула излишняя пламенность Жида: вскоре они расстались.
Французы были не единственными, кому Азия позволяла исполнять желания, осуществление которых оставалось противозаконным в Европе. Мы располагаем, например, полностью сохранившимися записками некоего Кеннета Сирайта, капитана британской армии в Индии, который дружил с писателем Э. М. Форстером и передал ему примечательный подробный 137-страничный дневник своих сексуальных похождений с мальчиками, написанный рифмованными двустишиями. В журнале Сирайта фигурирует 129 юношей, которые были его сексуальными партнерами между 1897 и 1929 годами, и подробно рассказывается, что именно он с ними делал и сколько раз с каждым. Из этого явствует, что, хотя Сирайт наверняка знал о своих сексуальных наклонностях еще до поездки в Индию и даже имел некоторый соответствующий опыт в Британии еще в школьные годы, именно Индия стала для него, по выражению Рональда Хайама, “безмятежным раем, где растаяли все запреты”. Или, если предоставить слово самому Сирайту, когда он говорил о своих забавах с мальчиками-пуштунами в ныне пакистанском городе Пешаваре и его окрестностях:
Там каждый отрок юных лет
С тобой пойдет за горсть монет,
Исполнит все твои желанья…
Там легче мальчиков найти,
Чем рвать цветочки по пути…
………………………………
Я ночь за ночью пировал —
В содомской страсти утопал.
Так почему же Монтерлан продолжал таиться всю жизнь, особенно в те времена, когда другие, вроде того же Жида, готовили почву для нового отношения к гомосексуализму? Сам Монтерлан, разумеется, не оставил никакого объяснения. Однако его нетрудно понять. Живя в такую эпоху, когда гомосексуальность считали проявлением и болезни, и безнравственности, он хотел получить от своей страны все награды, какими та только могла одарить писателя, хотел оставаться публичной фигурой с безупречной репутацией. А кроме того, к этому и без того мощному стимулу следует добавить, что Монтерлан был не просто гомосексуалистом, но и любителем мальчиков, что во Франции вызывало осуждение и преследовалось законом. Пожалуй, он был единственным членом Французской академии, “бессмертным”, который днем чинно выслушивал похвалы в свой адрес во французских литературных кругах, а ночью тайком охотился за смазливыми мальчиками.
Опасность не ограничивалась тем, что его могли узнать в лицо. В 1968 году, когда он пытался снять мальчика возле одного парижского кинотеатра, на него набросились старшие друзья этого мальчика и избили так, что он ослеп на один глаз, сам он туманно объяснял свою слепоту несчастным случаем. В ту пору Монтерлану было семьдесят два года – пожалуй, многовато для того, чтобы клеить мальчиков под уличными навесами кинотеатров, однако после того, как он пристрастился к малолетним мальчикам в Алжире, лет за сорок до того, он уже никогда не изменял этой страсти. А четыре года спустя, в 1974-м, боясь ослепнуть полностью, Монтерлан застрелился, для верности приняв капсулу с цианидом, перед тем как нажать на курок.
После смерти Монтерлана стали выплывать на поверхность различные сведения о нем. Оказалось, что он поверил свою тайну Роже Пейрефитту, французскому дипломату, с которым познакомился в 1937 году в зале игровых автоматов в окрестностях Клиши, куда оба явились в надежде закадрить мальчика. Во многом Пейрефитт был противоположностью Монтерлана, во всяком случае в том, что касалось его отношения к собственной сексуальной ориентации. Если Монтерлан изо всех сил скрывал свою гомосексуальность, то Пейрефитт писал романы и очерки, выступая в них открытым борцом за права геев, как сказали бы сегодня. В своих острейших полемических высказываниях он изобличал лицемеров, которые на словах осуждают гомосексуализм, а на деле сами тайно практикуют его, в том числе католическое высшее духовенство. В 1977 году он опубликовал сенсационную книгу откровений Propos secrets [“Тайные слова”], где помимо прочего выдал секрет своего друга Монтерлана, умершего пятью годами ранее.
“По моему мнению, – писал Пейрефитт, – педерастия еще никогда не играла такой важной роли в жизни мужчины… Особенно верно это в случае Монтерлана – из-за тех сложностей, которые она привносила в его существование. Он ведь не только жил в страхе – он порой выдумывал этот страх на пустом месте”.
Однажды, рассказывал Пейрефитт, Монтерлан вызвал полицию, когда кто-то ночью позвонил к нему в дверь. Оказалось, это был какой-то англичанин, поклонник его творчества, которому очень хотелось увидеться с великим писателем, а Монтерлан уже вообразил, будто к нему заявился шантажист. Он никогда не приводил любовников к себе домой, в квартиру на набережной Вольтера, а водил их в номера для горничных, которые снимал специально для этой цели. Когда он выходил “на охоту”, что случалось часто, то влезал в старое пальто, нахлобучивал шляпу на глаза и надевал черные солнцезащитные очки. Уже достигнув славы писателя и драматурга, он не позволял публиковать свои фотографии из страха, что его узнают в лицо, когда он будет в очередной раз слоняться по улицам или торчать у входов в кинотеатры или в залы игровых автоматов, где обычно толклись мальчики-подростки. Среди ухищрений, на которые он пускался с целью заполучить добычу, была такая: он предлагал мальчишке билет в кино, говоря, будто купил его для племянника, а тот так и не пришел. Несмотря на множество предосторожностей, время от времени Монтерлана приводили в полицейский участок вместе с каким-нибудь парнем, который кричал, что Монтерлан полез к нему в ширинку.
Однажды Клода Галлимара, его издателя, разбудили среди ночи и попросили забрать Монтерлана из пригородного полицейского участка. Если верить Пейрефитту, Морис Папон, парижский префект полиции, сообщил Анри Фламмариону, другому легендарному французскому издателю, что видел пять или шесть раз, как Монтерлана тащат в главное полицейское управление, всегда бледного как призрак. По-видимому, Папон (которого гораздо позже обвинили в преступлениях против человечества, совершенных в военные годы, когда он состоял генеральным секретарем оккупированного нацистами Бордо) оказывал некоторую защиту Монтерлану – возможно, из уважения к его литературным заслугам. И все же Папон говорил: “Это было жуткое зрелище. Я ощущал его позор”.
За откровениями Пейрефитта последовала исчерпывающая двухтомная биография Монтерлана, написанная Пьером Сиприо, его другом на протяжении четверти века, и довольно метко названная Montherlant sans masque – “Монтерлан без маски”. Главной темой этой книги стала сексуальность Монтерлана и его отчаянные старания скрыть ее. По словам Сиприо, Монтерлан боялся разоблачения уже в те годы, что провел в Северной Африке. Однажды в Фесе, увидев каких-то французских военных офицеров, он испугался, что его узнают. И все равно, как писал Сиприо, рассказывая в настоящем времени о жизни Монтерлана в Северной Африке, “каждый день он подвергается новому риску, следуя своей страсти к случайным связям. Чтобы победить в себе страх и “совершить прыжок”, он говорит, что представляет себя быком, фавном или сатиром”.
В биографии подробно описывается, на что толкало Монтерлана его наваждение и как он постоянно метался по Северной Африке, переезжая с места на место, отчасти не желая примелькаться и быть изобличенным, но отчасти и в поисках мальчика своей мечты. Однажды он уехал из города Алжира, чтобы провести несколько дней в Атласских горах, потому что услышал, будто там живет племя, где “стоит только улыбнуться – и заполучишь кого захочешь”. Здесь Монтерланом был написан эпизод романа Aux fontaines du désire (“У истоков желания”), автобиографичность которого ранее оставалась неизвестной. Он проводил целые дни, блуждая по одним и тем же немногочисленным улочкам в надежде увидеть лицо, уже виденное ранее, в уверенности, что его настойчивость все-таки принесет плоды. Когда Монтерлан не писал (а в Северной Африке он писал много), он выслеживал добычу. Завидев новую цель, “я даже не удосуживался отряхнуть одежду, – написал он однажды, – потому что на это ушло бы лишние две минуты, а мои надежды могли не продержаться этих двух минут”. Слова, которыми Сиприо охарактеризовал поведение Монтерлана в Северной Африке, – о том, что тот “предавался всем мыслимым наслаждениям, не ведая никаких ограничений”, – свидетельствуют о важной роли французских колоний для многих французов и других европейцев, для которых они стали царством свободы от сексуальных запретов. Монтерлан “по-настоящему ощутил в Северной Африке, что чувственное удовольствие и любовь могут существовать независимо друг от друга. Раньше лишь любовь считалась чистой. Удовольствие, если оно не было постыдным, чистым не считалось, его окружали всевозможные запреты”.
Монтерлан отправился в Алжир в 1927 году, подталкиваемый “мощной страстью к плоти”, как указал Сиприо, цитируя слова из очерка самого Монтерлана. Он начал свои сексуальные похождения сравнительно поздно, в тридцать лет, писал Сиприо, но потом уже предавался им с колоссальной энергией, днем и ночью, скитаясь из Туниса в Фес, из Константины в Алжир, в дальние деревни в Атласских горах. “В Париже Монтерлан не давал себе воли, – говорил Сиприо. И, называя городок в северо-западном Алжире, продолжает: – А в Тлемсене приключение поджидало его за каждым углом”.
В те дни еще отчетливее, чем сегодня, в глаза бросалось преимущество западного человека: ему достаточно было просто появиться на улице, и его со всех сторон обступали туземные разносчики и торговцы, предлагавшие что угодно, от гашиша до ковров и от певчих птиц до маленьких девочек. Монтерлан записал как-то, что однажды, когда он сидел в кафе в одном североафриканском городе, к его столу подошел юноша, взял графин, налил воды в стакан Монтерлана и сам ее выпил. Он вспоминал, как видел другого юношу, который поцеловал в губы собственное отражение в витрине магазина. Монтерлан никак не пояснял этого жеста, но он, по-видимому, иллюстрировал то ощущение чувственной свободы, которое так полюбилось писателю в Северной Африке.
В середине 1930-х Монтерлан написал один очерк – в ту пору он не был напечатан, но спустя десятилетия Сиприо сделал его достоянием публики. Этот очерк написан от лица воображаемого критика, который разбирает его произведения, о себе же Монтерлан говорит в третьем лице. “Чувственность Монтерлана ориентальна даже в частностях, – писал он и выделял такие частности: – А. Восточный взгляд на женщину. Б. Любовь к юности и даже к крайней юности”.
В этом очерке Монтерлан, продолжая рассуждать как будто от лица постороннего человека, сравнивает самого себя с исламским святым, вслед за другими указывая на то, что в исламе чувственное желание и духовность неразрывно спаяны, тогда как в христианстве они считаются враждебными друг другу полюсами. “Монтерлан сознательно отметает все то, что не связано с внутренним миром и с чувственностью, и это отношение, по-видимому, типично для мусульманского мира, – писал о себе Монтерлан. – Несть числа великим мусульманским мистикам (таким, например, как Джалаладдин Руми), которые прославились и своей духовностью, и галантными похождениями. Кроме того, мусульманский мир страдает от этого добровольного двойного неведения: не зная ничего, кроме Бога и сексуального излишества, он чужд остальному миру”.
По мнению Сиприо, “Роза песков” – это “фантастический приключенческий роман”, что-то вроде сказки из “Тысячи и одной ночи” об арабском детстве. Он говорил, что Монтерлан делал заметки об арабских детях повсюду, где оказывался, и в результате этих путевых зарисовок возник портрет женщины-девочки Рамы. Но “Роза песков” – далеко не единственный французский роман, затрагивающий тему педофилии в колониальной Северной Африке. На самом деле роман Монтерлана даже с некоторым запозданием пополнил тот уже развившийся поджанр в рамках еще более обширного жанра романов, обращавшихся к теме романтических и сексуальных связей между европейцами и североафриканскими женщинами. Один литературовед насчитал пятьдесят семь художественных произведений, которые французские писатели посвятили данной теме. Во многих из них рассказывается о крахе подобных отношений и ясно обозначается тема странного и загадочного поведения восточной партнерши.
В этих произведениях часто фигурирует педофилия, так что можно не сомневаться: эта практика была достаточно широко распространена среди европейцев, путешествовавших по странам-колониям. Эрнест Фейдо в книге Souna: Moeurs arabes (“Суна: арабские нравы”), опубликованной в 1876 году, поведал историю о французском офицере Пьерле, который спасает юную дочь торговца фруктами от бандитского нападения, а потом делает ее своей любовницей, причем среди угнетенных нищетой и несколько самодовольных жителей североафриканских деревень не находится ни одного человека, который спас бы девочку уже от него. Сюжет повести Фейдо настолько напоминает “Розу песков”, что можно даже заподозрить, что вторая книга была хотя бы частично вдохновлена первой. Пьерле “надоела грубая жизнь, надоело пить несвежую воду, спать на жесткой земле, грызть армейские галеты, слышать полные ненависти крики арабов, сражаться в горах и тому подобное”. И, в точности как Рам лейтенанту Олиньи, “Суна явилась… [лейтенанту Пьерле] так неожиданно и при столь трагических обстоятельствах, еще совсем юная, с прекрасными ланьими глазами, небрежной грацией, утонченной негой… Она явилась перед ним, как является арабу, заблудившемуся в песках Сахары, родник с ключевой водой в пальмовой роще”.
В 1912 году, примерно через сорок лет после выхода в свет книги Фейдо, но все еще за поколение до Монтерлана, в романе братьев Жерома и Жана Таро La fête arabe (“Арабский праздник”), военный врач привязывается к одиннадцатилетней Зохире. Узнав, что ее собираются выдать замуж за старого шейха, врач похищает ее и делит с ней ложе. И здесь фантазия работает в уже знакомом нам направлении: смелый европеец спасает юную девушку, которую хотят принести в жертву похоти старого развратника, да не просто какого-то старого развратника – речь идет о темнокожем деспоте! Конечно же, это невыгодный жених по сравнению с просвещенным и светлокожим ученым мужем. Мы помним, как в XVI веке Лодовико Вартема воображал, будто превосходит в глазах царицы Счастливой Аравии самого султана. И вот, триста лет спустя, в “Арабском празднике” находит выражение очень похожая идея, а именно – что туземной девушке лучше попасть в постель к доктору-иностранцу, чем к туземному шейху. Да и кто возразит, что это не так?
Роман Монтерлана отличается от этих сочинений тем, что в нем несчастливый конец ожидает скорее европейца, нежели арабскую девушку. Олиньи отзывают из Бирбатины, и он просит Рам поехать вместе с ним. Для него она, несомненно, любовь на всю жизнь. Она говорит, что придет к нему на следующий день. В назначенное время он приходит в назначенное место. А она так и не появляется. Он никогда больше ее не увидит – и она не дает никакого объяснения, не оставляет записки, не присылает весточки через посредника. Это был очередной акт пассивного своеволия, быть может, даже пассивного сопротивления колониальному режиму. Она просто не приходит – и Олиньи, лишившийся и любви, и веры во французский колониализм, совершает поступок, достойный Монтерлановой философии бесполезного самопожертвования: он гибнет в стычке с арабскими партизанами, сражаясь за идею колониального величия, которую сам давно уже презирает.
В 1932 году Монтерлан вернулся во Францию, но годы, проведенные в Северной Африке, продолжали оказывать на него мощное воздействие. Ведь тогда он был относительно свободен и относительно бесстрашен. Но, в отличие от, скажем, Жида, который вернулся в Алжир в начале 1930-х, когда ему было уже за шестьдесят, Монтерлан никогда больше не приезжал в Магриб. Трудно понять почему. Возможно, главным образом из-за обязательств, какие накладывали на него наметившаяся литературная карьера и колоссальное честолюбие. Именно в годы, последовавшие сразу за североафриканским периодом, Монтерлан написал книги, которые и принесли ему славу писателя, – “Холостяков” (Les célibataires), вышедших в 1934 году, и четыре тома, начинавшиеся с “Девушек” (Les jeunes filles), которые выходили с 1936 по 1939 год. Быть может, ему было просто некогда ездить в Африку. А потом, в 1940-м, началась война. В те годы он в основном посвятил себя театру, а после войны у него уже имелись и слава, и репутация, которые следовало культивировать и оберегать.
Итак, Монтерлан оставался на родине, что представляется несколько загадочным, памятуя о его североафриканских приключениях, и каждый день подвергался ужасам, какие приберегала для него двойная жизнь. А Северную Африку он вспоминал как место, где впервые посмел нарушить запреты. И за всю свою жизнь, длившуюся семьдесят шесть лет, отмеченную почестями, славой и успехами, Северная Африка так и осталась единственным местом, где, хотя бы частично освободившись от ограничений христианского мира, он был самим собой. Пейрефитт – друг-предатель, который рассказал всю правду о нем, – очевидно, считал, что боязнь Монтерлана быть самим собой и во Франции вызвана нравственной трусостью и лицемерием. Монтерлан не только олицетворял грязный маленький сексуальный секрет французского колониализма, но и осквернял те самые воинские ценности, которые превозносил в своих романах и политических выступлениях. И даже его самоубийство проиллюстрировало всю лживость его жизни – такой суровый вердикт вынес Пейрефитт. “В моих глазах, – заявил он в Propos secrets, – самоубийство Монтерлана было его очередным театральным жестом… Это была его последняя личина, призванная изобразить мужественную отвагу со стороны человека, который на самом деле всю жизнь трясся от страха из-за своих поступков”.
Отступление пятое
Малаккский блюз
Излишне говорить, что семена, посеянные западными людьми в пору своего пребывания на Востоке, дали стойкие генетические и культурные всходы. В тропическом ветшающем и очень живописном городе Малакка (иногда его название пишут как Мелака) на юго-восточном побережье Малайзии я познакомился с Мартином Тезейрой. Среди его предков наверняка был кто-то из тех португальских моряков, которых генерал-губернатор Афонсу де Албукерки, завоевавший Малаккский султанат в 1511 году, побуждал оплодотворять местных женщин. Но, даже если он и не ведет свою родословную с тех далеких времен, можно не сомневаться, что среди его прапрадедов был колонист-португалец, вступивший в связь с малайкой или, может быть, полумалайкой, еще до 1641 года, то есть до окончания португальского владычества.
Мартину, отцу двух прекрасных сыновей, слегка за пятьдесят. Это худощавый красивый человек с седеющими усами, медно-коричневой кожей и прямыми угольно-черными волосами. Он приветлив и серьезен, неплохо говорит на трех языках – на английском, малайском и кристанге, смеси португальского, малайского, арабского и тамильского. Глаза у него скорее овальные, чем круглые, но иберийские черты лица угадываются безошибочно. В Лиссабоне можно увидеть множество немолодых мужчин похожего типа.
Эта португальская община просуществовала тут в течение почти пятисот лет, на протяжении двадцати пяти поколений сохраняя католическую веру в стране с подавляющим большинством мусульман. “Мы продержались все эти века, причем без школ, безо всякой связи с Португалией”, – сказал Мартин. Он имел в виду, что дети кристангов всегда ходили в государственные школы, где преподавание велось на английском или малайском, а обучения на кристанге не было. А так как Малакка перестала быть португальской колонией еще в XVII веке, когда отошла под власть голландцев, то кристанги уже более трехсот пятидесяти лет фактически отрезаны от своей прежней “метрополии”.
Справедливо будет сказать, что кристанги всегда были скромным народом – по большей части рыбаками, земледельцами, а в недавнее время и фабричными рабочими. Мартин живет тем, что продает банки с “Домашними блюдами от Мартина” – соленой рыбой, маринованным зеленым манго, консервированной икрой и прочими деликатесами, – которые он действительно готовит у себя на кухне. В Малакке насчитывается, наверное, меньше двух тысяч кристангов, а еще около тысячи живет в других местах Малайзии: далеко не критическая масса, которая могла бы породить процветающую культуру мирового уровня. Кристангской литературы не существует. Не имелось даже словаря языка кристанг, пока несколько лет назад его не составил один европеец. Зато есть церкви, воскресные школы и характерная кухня, фирменным блюдом которой является очень вкусная темная ферментированная креветочная паста ченкалук – ее подают с рубленым луком, красным жгучим перцем и лаймом. У кристангов есть ежегодные праздники и своя музыка, а самое главное – ощущение собственной идентичности, которое, по их представлению, и делает их отдельным народом. В Малайзии их считают португальцами. Они живут в так называемом Португальском поселении, которое время от времени переносилось с места на место. Комплекс выжженных солнцем зданий возле их главного жилого квартала носит название Португальской площади. Среди кристангов распространены такие фамилии, как Тезейра, да Силва, Пинтаду, Фернандиш и Лазару.
Существует множество подобных смешанных народов в самых разных уголках земли, где торговали, воевали, распространяли свою веру и производили потомство уроженцы Запада. Португальцы сделались родоначальниками, по-видимому, первого в истории евразийского населения Гоа, на западном побережье Индии, где Албукерки основал торговый порт, прежде чем отправиться дальше, к Малаккскому проливу, Макао и Японии. Как мы помним, Албукерки приказал своим солдатам жениться на местных женщинах, прежде всего на вдовах воинов-туземцев, убитых в столкновениях с португальцами, чтобы их дети служили в будущем имперским интересам Португалии. И эта подробность в отношениях Востока и Запада служит напоминанием о том, как поразительно отличался мир, существовавший пять веков назад, от современности. Представьте себе, что главнокомандующий армии-победительницы сегодня или даже два-три века назад приказывает своим солдатам жениться на женщинах, чьих мужей они же сами и убили в бою! Но столетия назад, в те первые десятилетия эротических контактов между Востоком и Западом, на восточных женщин смотрели просто как на одно из заманчивых природных богатств вроде гвоздики и мускатного ореха. Достаточно лишь истребить мужчин при помощи превосходящего оружия и тактики, а потом можно взять туземок в жены и обратить их в христианство.
Результат этой политики, о каком едва ли задумывался сам Албукерки, по-прежнему налицо: это сложившиеся народности-гибриды, гордые, самостоятельные, существующие в различных краях от западной Индии до восточной Японии, являющие пример глобального смешения крови, языков и обычаев. К ним относятся десятки тысяч англо-индийцев – как правило, это потомки британцев и индианок, вступавших в связи в течение долгих веков колониальной зависимости Индии. Спустя столетия вследствие сексуального “беспредела”, наступившего в ходе войны в Индокитае, американские солдаты наплодили не одну тысячу детей-полукровок, подавляющее большинство которых впоследствии росли в сиротских приютах или с матерями, ставшими социальными париями, и так никогда и не узнали, кто их отцы. Кроме того, на Филиппинах живет около пятидесяти тысяч амеразиатов – последствия многолетнего пребывания там американских военнослужащих. Амеразиаты живут и в Корее, где после корейской войны были расквартированы американские войска.
Конечно, сложно делать общие выводы относительно плодов послевоенных сексуальных контактов между американцами и азиатками, повторившими уже на новый лад тот опыт, начало которому было положено в конце XV века, в эпоху морской экспансии Португалии. Но, например, во Вьетнаме зафиксированы многочисленные случаи дискриминации амеразиатов, которые в своей родной стране сделались гражданами второго сорта – отчасти оттого, что общество видит в них плоды позорных связей, ублюдков, рожденных женщинами постыдной профессии. Вдобавок немало этих амеразиатов наполовину чернокожие, а многие вьетнамцы имеют расистские предубеждения против негров, довольно распространенные в Восточной и Юго-Восточной Азии.
Впрочем, нельзя сказать, что смешанные народности обязательно возникали в результате контактов европейцев или американцев с азиатками. Еще до того, как в Малакку со своими семнадцатью кораблями и тысячью двумястами людьми приплыл Албукерки, чтобы отобрать эту землю у мусульманского султана Махмуд-шаха, в Малакке уже существовало, как мы сказали бы сегодня, мультикультурное общество. За полвека до прибытия португальцев туда приехала китайская принцесса Хан Ли По со свитой из пятисот прислужниц, чтобы выйти замуж за султана Мансур-шаха, а ее прислужницы сделались женами местных мужчин. Этот брак был отчасти вызван желанием султана установить крепкие связи с Китаем, тем самым обезопасив себя от воинственных сиамцев, которые повадились совершать набеги на Малайское побережье.
Китайских малайцев называют баба-нёня; индийские малайцы – потомки индийцев, переселившихся на Малайский полуостров в годы британского имперского владычества, – называются читти. “Но в чем-то мы стоим особняком, – сказал мне Мартин, говоря о кристангах, – потому что баба-нёня опираются на китайскую общину, читти поддерживают связи с индийской общиной, а у нас нет подобной португальской общины, на чью поддержку мы могли бы рассчитывать”.
Пятьсот лет – это очень большой срок для выживания отдельной культуры, и Мартин, как и другие кристанги, гордится тем, что им удалось ее сохранить. Португальцы правили Малаккой сто с лишним лет. Кристанги никуда не уезжали и в течение тех двух столетий, когда здесь правили голландцы. Британцы официально сделались здесь хозяевами в 1824 году, и их власть продержалась вплоть до провозглашения независимости Малайской федерации (ныне это штат Малайзии) в 1957 году. На протяжении всех этих веков кристанги жили в деревенских хижинах вдоль побережья, ловили сетями креветок и рыбу, посещали мессы, собирались под развесистыми каштанами у Малаккского пролива, чтобы вместе выпить, поболтать, перекинуться в картишки. Они справляли свои праздники, учили детей катехизису и слушали – наверное, с тем чувством собственной чужеродности, какое свойственно любым этническим меньшинствам, – пение муэдзинов, созывавших правоверных мусульман на молитву. Поколение за поколением в местных церквях служили мессу приходские священники, присылавшиеся сюда из Лиссабона, однако подчинявшиеся епископу Макао.
“В Малакке есть одна улица – улица Гармонии. Там стоят и мечеть, и индуистский храм, и китайская пагода”, – рассказывал мне Мартин, приводя пример разнообразия и веротерпимости малаккской традиции. Мы сидели в кафе на Хиринг-стрит и завтракали омлетом с ченкалуком и утренней зеленью, обжаренной на сковороде вок. Хиринг-стрит тянется между рядами двухэтажных деревянных домов-магазинов с портиками-колоннадами. От бывшего Голландского городка, который сохранили в неприкосновенности, даже с ветряной мельницей, своего рода памятником исторического наследия, увековечивающим те два столетия, когда эта часть Малайи подчинялась Амстердаму, Хиринг-стрит находится по другую сторону реки Малакки. Параллельно улице тянется Джонкер-Уок, которая по вечерам превращается в пешеходный проспект и служит типичным, предположительно аутентичным центром старого города, где расположилось множество кафе, ресторанов и сувенирных лавок.
Но, завершая свой обзор, Мартин отнюдь не выражает оптимизма. Он сомневается, что кристанги просуществуют еще несколько поколений, не говоря уж о столетиях. “Нам не очень-то счастливо живется, – сказал он во время нашей первой встречи. – Есть много сил, которые стремятся задавить нас”. Главная беда в том, считает он, что в Малайзии недостаточно людей, которые придавали бы значение выживанию малочисленной евразийской общины, и, по его мнению, такая недооценка является недальновидной, поскольку лишает Малакку одной из своих самых характерных и ярких черт.
Много лет назад мелиорационные проекты, финансировавшиеся местным правительством, отрезали кристангов от моря, и это нанесло серьезный ущерб их идентичности. Мартин показал мне дом своих предков, где он сейчас изготавливает “Домашние блюда от Мартина”, но где сам больше не живет. Раньше этот дом стоял прямо у воды. Там, где когда-то рыбаки привязывали свои лодки перед Португальским поселением, сейчас проходит дорога, а по другую сторону от нее тянется вереница безликих современных построек. Море, которое было раньше прямо здесь, так что шум прибоя убаюкивал по ночам прибрежных жителей, отступило от суши почти на километр.
Португальцы мало-помалу отселились в другие места, многие переехали в прибрежный поселок несколько южнее. Они рассеялись, а такой маленькой общине трудно сохранять единство, если у нее нет своего компактного места обитания.
“Отнять у нас море значит уничтожить нашу культуру, – говорил Мартин. – В прошлом почти все кристанги рыбачили. А теперь большинство занимаются чем-то другим, и все изменилось, атмосфера уже не та”. Если бы удалось возродить прежнюю атмосферу, считает Мартин, то Малакка вернула бы себе изрядную часть утраченного характера. Это оживило бы туризм, потому что путешественников непременно притягивал бы прибрежный поселок с его деловитой общиной, где рыбаки чинили бы сети и обменивали свежевыловленных креветок на мангровые трости, которые привозят сюда на лодках с Суматры, что по другую сторону пролива. Это понравилось бы туристам из Китая, Сингапура и Австралии, которые бродят сейчас по Джонкер-Уоку и старому Голландскому городку. Но пока что на береговой линии Малакки смотреть не на что.
“В 1998 году правительство провело мелиорацию на куске прибрежной земли возле нового Португальского поселения, чтобы построить там гостиницу, – сказал Мартин. – Власти уверяли, что эта гостиница станет расширением поселка кристангов, однако, когда строительство завершилось, правительство просто забрало гостиницу себе”.
Мы посетили ее, гостиницу “Лиссабон”. Она оказалась неким подобием Альгамбры, выросшим у Малаккского пролива, – бежевые оштукатуренные корпуса с красными черепичными крышами вокруг огромного внутреннего двора. Но, по словам Мартина, кристангов среди персонала там раз-два и обчелся – секретарь да охранник. Гостиницу используют в основном правительственные чиновники, собирающиеся на деловые переговоры, поэтому в соответствии с мусульманскими порядками там запрещено употреблять алкоголь. А что же может быть португальского в заведении, где нельзя выпить?
“Название “Лиссабон” с ней просто несовместимо”, – сказал Мартин. Эта гостиница только заслоняет кристангам вид на море. “Вам нужно побережье, чтобы строить отели? Сначала сделайте так, чтобы людям захотелось сюда приезжать, – продолжил он. – Будь это в моей власти, я бы перенес все поселение обратно к самому морю”.
Даже если это произойдет (что маловероятно), есть и иные обстоятельства, которые, похоже, помешают кристангам долго оставаться цельной общиной, – об этом Мартин говорил с печалью и смирением. Его нельзя назвать оптимистом, хотя он, насколько это в его силах, помогает своей культуре не угаснуть. Вместе с другом они записали на компакт-диск кристангскую музыку; он встречается с единомышленниками, и они говорят на кристанге и убеждают других людей говорить на этом языке с детьми. Но главное обстоятельство, которое угрожает кристангам вымиранием, – это просто подавляющее численное превосходство и культурное влияние окружающего их малайского населения, а также отсутствие сколько-нибудь явного желания со стороны правительства, где преобладают мусульмане, поддержать португальскую общину, не дать ей исчезнуть.
Самая большая проблема – это, пожалуй, браки между представителями разных религиозных групп. По малайзийским законам, если кто-либо вступает в брак с мусульманином или мусульманкой, то он или она обязаны принять ислам, иначе брак не будет признан действительным. И многие молодые кристанги, уезжающие из родных мест на учебу или работу (по словам Мартина, около половины из них), женятся на девушках из других этнических групп. А несколько лет назад, когда детей кристангов в государственном детском саду попросили что-нибудь нарисовать, многие изобразили полумесяц – мусульманский символ.
“В прошлом в Малакке всегда заключалось много смешанных браков, – сказал Мартин, – но тогда люди особенно не задумывались о том, кто какой веры или национальности. Теперь все сложнее. Здесь замешана политика. Политические партии соревнуются между собой, кто больше привержен исламу”. Это привело к ужесточению законов против тех, кто вступает в брак с немусульманами.
Так что вполне может оказаться, что мы являемся свидетелями последней фазы долгой культурной истории, начало которой положил пять веков назад Афонсу де Албукерки, и это очень печалит Мартина. Он повторял снова и снова: если ничего не предпринимать, то община рассеется, что приведет к ее исчезновению. Малаккские церкви в иберийском стиле опустеют, быть может, их превратят в музеи для туристов, повесят на них мемориальные таблички, увековечивающие построивших их членов евразийской общины. А может быть, появится какой-нибудь энергичный вожак и защитит кристангов от медленного исчезновения. Кто знает? Но шансы невелики хотя бы потому, что численность общины уже слишком мала.
Глава 8
Восточный парадокс
Министр образования Раджастана, одного из крупнейших штатов Индии, назвал эту идею “постыдной”. Она будет “развращать умы молодежи”, пояснил он. Другой государственный чиновник, уже из штата Мадхья-Прадеш, заявил, что, выдвигая такое предложение, центральное правительство Индии “принизило индийскую культуру и ее ценности”.
Столь резко негативные и консервативные комментарии явились реакцией на начатую в 2007 году во всех государственных школах Индии программу, нацеленную на то, чтобы преподать 15–17-летним индийским подросткам уроки “юношеского воспитания” – иными словами, дать знания о половом размножении человека. В стране, где проживает самое большое количество людей, зараженных вирусом СПИДа, – около 5,7 миллионов человек – такая программа, казалось бы, должна была не просто предоставить молодым людям немного информации о поведении при любовных отношениях, но и, быть может, спасти кому-нибудь из них жизнь. Однако к маю 2007 года местные власти шести из двадцати восьми штатов Индии запретили уроки сексуального просвещения ради сохранения того, что было многократно названо “индийской моралью”.
“Может быть, западным странам и нужно сексуальное образование, – заявил репортерам на новостной конференции Х. Д. Кумарасвами, премьер-министр штата Карнатака, – но только не в Индии, где имеется богатая культура. Если его ввести, оно может оказать неблагоприятное воздействие на юные умы”.
Это поразительно похоже на реакцию некоторых американцев-консерваторов на подобные инициативы в Соединенных Штатах, где предложения ввести уроки сексуальной грамоты и распространение презервативов среди старшеклассников были встречены воплями протеста против кощунственного покушения на так называемые американские ценности. В США примерно половина населения поддерживает сексуальную культуру, которая делает упор на понятия греха, вины и целомудрия (притом что вторая половина остается в лагере коммерческо-рекламной культуры, во многом основанной на сексуальной провокации и пропаганде желания), так что можно не удивляться существованию стойких представлений о том, что сексуальное образование в общественных школах противоречит американской морали и вообще морали как таковой.
Но в Индии, на родине “Камасутры” и множества других сексуальных руководств, написанных еще в те времена, когда в Европе длились “темные века” (в том числе и “темные века” для секса)? Достаточно одного беглого взгляда на главные религиозные образы Индии и стран христианского мира, чтобы обнаружить колоссальный разрыв между двумя эротическими культурами. С одной стороны, мы видим образ матери с младенцем, прославляющий Непорочное Зачатие, рождение без участия животной похоти, мы видим нежную, задумчивую, глубоко одухотворенную Деву Марию, которая держит на руках младенца Иисуса. С другой стороны, мы видим богиню Лакшми, супругу Вишну, Верховного Вездесущего Существа, Творца и Разрушителя всего сущего. Лакшми, подобно другим богиням индуистского пантеона (хорошим примером может послужить Парвати, супруга Шивы), обычно изображается в весьма чувственных позах, с обнаженной грудью, полными бедрами, узкой талией, с головой, повернутой к возлюбленному: такая поза намекает на их соединение, то есть на первичный акт порождения. Один священный образ находится в церкви, другой – в храме, оба несут религиозный смысл, только один прославляет целомудрие как путь к духовной истине, а второй – блаженство сексуального единения с божественным началом.
Индия, несомненно, обладает богатой культурой, частью которой являются и каменные скульптуры и рельефы, изображающие любовные пары в эротических позах: обнаженную женщину, акробатически взбирающуюся на бедра своего любовника, с запрокинутой в экстазе головой, с бедрами, уже приподнятыми для того, чтобы принять пенис. Такие изображения можно увидеть на колоннах и стенах многих индуистских храмов, а физическим и духовным средоточием каждого храма является лингам – откровенный фаллический символ, олицетворяющий жизнетворную силу. В штате Мадхья-Прадеш, чей премьер-министр Шиврадж Сингх Чоухан так горячо пекся об охране индийских ценностей, находятся знаменитые на весь мир эротические скульптуры Кхаджурахо – одна из главнейших туристических достопримечательностей страны.
Кхаджурахо кишит откровенно сексуальными изваяниями, представляющими высокую художественную ценность. Одна из скульптурных групп изображает лежащего на спине мужчину, который ласкает руками гениталии двух нагих пышных женщин по обе стороны от него, а его возбужденный член входит во влагалище третьей женщины, опускающейся на него сверху. Смысл этого произведения искусства, созданного около тысячи лет назад, явно не сводится к тому, что секс есть нечто изначально греховное и что заниматься им следует исключительно со святой целью зачатия потомства. Скорее эти скульптуры указывают на то, что секс есть некое духовное начало, которое следует восхвалять, а заниматься им нужно и искусно, и в то же время исступленно. Эти изваяния – общественное достояние, а не какая-нибудь порнография, предназначенная для рассматривания украдкой, в укромном уединении частной жизни.

Сопоставим “Мадонну с младенцем” Микеланджело, 1504 г. (церковь Богоматери, Брюгге, Бельгия), с типичным образцом индийской религиозной иконографии – изображением индуистского бога Вишну с его супругой Лакшми, ок. 950 г. (храм Паршванатха, Кхаджурахо). Scala / Art Resource, N.Y. and Vidya Dehejia
В западной традиции сексуальное желание резко противопоставлялось духовности, тогда как в Индии, как сказал об этом один писатель, “религиозность, метафизика и сексуальность не воспринимались как некие противоположные состояния – напротив, эти три начала тесно переплетались”. Великие чувственные бронзовые статуи из южно-индийских царств Паллавы и Чола изображают “цариц, куртизанок и богинь одинаково… беззаботными и чувственными, с обнаженной грудью: они дразнят своих мужчин, становятся на цыпочки, чтобы поцеловать их, с вызовом кладут руки им на бедра”. Что сразу бросается в глаза при взгляде на эти гибкие фигуры, так это откровенное наслаждение, вызываемое красотой человеческого тела. Мужчины изображены с выпуклой мускулатурой и крупными гениталиями. Женщины, украшенные ожерельями и поясами, повязанными вокруг бедер, наделены пышными формами, улыбаются и стоят в соблазнительных позах. Разумеется, и на Западе существовало классическое и ренессансное искусство, прославлявшее красоту человеческого облика, но в нем не найти таких образов, которые объединяли бы в себе религиозность с чувственностью, а именно это мы видим в индийском искусстве. Древние священные тексты индуизма, собранные в Ригведе, свидетельствуют о том, что в начале было кама – плотское желание – “и желание было у Бога, и желание было Бог”.
Парадоксально, что сегодняшняя официальная “индийская мораль”, на которую ссылались чиновники в тех заявлениях по поводу сексуального просвещения, похоже, попросту “заретушировала” более древнюю традицию, заменив ее вымышленной традицией скромности и целомудрия. В газетной статье, где рассказывалось о протестах против сексуального просвещения в 2007 году, была помещена фотография девочек-подростков в строгой синей школьной форме, с заплетенными в скромные косы волосами. Школьницы разглядывали лежащие гипсовые или пластмассовые модели мужчины и женщины. У мужского манекена была вскрыта грудина, а пластмассовые внутренние органы различались между собой цветом. Если уж эти, довольно бесполые, слепки подрывают “индийские ценности”, то что можно сказать об эротических скульптурах в Кхаджурахо и многих других городах Индии, об изображениях, как раз и предназначавшихся, по распространенному среди ученых мнению, для наставления людей в искусстве любви?
Дело в том, что, по представлению многих выдающихся индийцев, сексуальное образование действительно противоречит индийским ценностям – по крайней мере в соответствии с сегодняшним определением этих ценностей, в числе которых имеется и желание сохранить область интимных отношений интимной, а не делать их обсуждение публичным и не передавать его в ведение бюрократов. Реакция индийской общественности на программу сексуального образования демонстрирует один парадокс: те самые страны, куда раньше западные люди отправлялись в поисках наслаждений и приключений, недоступных у них на родине, сегодня являются наиболее сексуально консервативными на планете – к ним относятся и коммунистический Китай, и исламская Северная Африка, и сама Индия. Между тем страны, где раньше господствовали строгие запреты и ограничения, пережили сексуальное пробуждение, освобождение от религиозных и моральных оков, что отчасти произошло, как это ни парадоксально, под влиянием восточных примеров. “Миссионеры, – писал о более общей тенденции Иэн Бурума, – обосновались в Куала-Лумпуре, а вавилонские блудницы перебрались в Лондон и Нью-Йорк”. Конечно, как во многих странах с большой долей нищего населения, в Индии и Китае много проституток. Во всех крупных индийских городах имеются кварталы, знаменитые прежде всего своими борделями, которые существуют в некоем состоянии юридической неопределенности: сама проституция в Индии законами не преследуется, а вот бордели под запретом. Иными словами, женщина, торгующая своим телом, закон не нарушает, если же она занимается этим в одном месте с другими женщинами, которые заняты тем же ремеслом, то это уже противозаконно. Так или иначе, любому иностранцу, которому захочется платного секса, достаточно лишь попросить таксиста в Бомбее, Нью-Дели или Калькутте отвезти его в “квартал красных фонарей” в этом городе. Там он обнаружит множество готовых к работе проституток, ждущих его в “номерах” на верхних этажах домов или застывших в призывных позах (чем-то напоминающих позы женщин, изображенных в пещерных храмах Аджанты) за зарешеченными окнами.
Однако в глазах общественности, как показали дебаты вокруг программы сексуального образования, Индия уже не выглядит таким местом, где британские солдаты могли бы заполучать к себе в постель девушек из школы по соседству и где в атмосфере ощущался бы постоянный гаремный аромат. Скорее в атмосфере сегодняшней Индии ощущается некий буржуазный чопорный душок, отдающий викторианской Англией, и это, возможно, не просто совпадение. В самом деле, если сравнить обильную продукцию современной индийской киноиндустрии – Болливуда – с барельефами Кхаджурахо, то можно увидеть, насколько преобразилось общественное сознание в Индии, отказавшись от откровенной эротики в пользу навязанной публичной скромности. Каждый болливудский фильм – это история любви, где обязательно есть и статный привлекательный мужчина, и красавица с пышными формами, и каждый такой фильм изобилует танцевальными эпизодами, явно задуманными для разжигания похоти. Это своего рода стыдливая порнография. Но пока в индийском кинематографе запрещено показывать наготу, поцелуи и соития в отличие от всего того, что позволялось изображать на колоннах в Кхаджурахо больше тысячи лет назад.
Но, прежде чем исследовать эту трансформацию сознания, следует задать себе важный вопрос: действительно ли на Востоке существовала своя сексуальная культура, отличная от западной, культура, в рамках которой считалось нормальным и даже неизбежным право богатых и влиятельных мужчин на обладание несколькими женами и любовницами – идея, которая пришлась весьма по душе европейцам колониальной эпохи? Действительно ли в прошлом на Востоке имелось гораздо меньше сексуальных ограничений, чем сейчас, а если да, то что именно привело к нынешнему обострению стыдливости? Или, может быть, представление о Востоке как о зоне особой эротической вседозволенности возникло исключительно в западной фантазии, выдававшей желаемое за действительное, и создало искаженную эротизированную картину, которая явилась одновременно и порождением колониальной власти, и ее оправданием?
Политически корректный ответ таков: да, мнимо иная, более откровенная и бесстыдная восточная сексуальность – это исключительно вымысел, созданный западным воображением. Другая излюбленная аксиома, выдвинутая множеством ученых, исследующих данный вопрос, гласит, что западные фантазии по поводу восточной сексуальности принижали уроженцев Востока, отождествляя их с податливо-женственным началом, которое лишь правильно и справедливо покорять и подчинять своей воле. Влиятельным прародителем такого взгляда стал покойный Эдвард Саид, чье определение ориентализма уже приобрело некий статус “священного писания” среди его многочисленных поклонников. До Саида ориентализм считался уделом безобидных книжников – филологов, антропологов, археологов, лексикографов, переводчиков и остальных, которым нравилось изучать диковинные языки и обычаи и которые занимались этим из неудержимой страсти к познанию. Кроме того, это познание было прогрессивным по духу, так как помогало обнаружить великолепные достижения и духовную сложность культур, которые ранее считались варварскими и дикарскими. Как-никак, не сами египтяне создали тот культ Древнего Египта, которым так гордятся египтяне сегодняшние. Нет, создали его европейские исследователи древности, начиная с тех, кто прибыл в Египет в 1798 году вместе с Наполеоном, – именно они заново открывали гробницы фараонов, говорили об огромной значимости пирамид, расшифровывали иероглифическое письмо. А в других краях Марк Аурель Стейн, венгерский еврей и британский исследователь Центральной Азии, раскопал погребенные в песках и преданные забвению местными народами и правительствами буддистские пещерные храмы, которые ныне Китай считает важнейшими памятниками своего культурного наследия. Культ экзотики – это нечто большее, нежели просто колонизаторский позыв, он порожден подлинным любопытством, жаждой знаний, органичной частью того первопроходческого импульса, который (странным образом) почти всегда возникал на Западе и устремлялся к Востоку и крайне редко (если такое вообще бывало) приобретал обратное направление. И это стремление к исследованию экзотических культур и далеких народов обычно приводило к восторженным описаниям их величия.
Однако Саид взял эту в целом прогрессивную традицию и объявил ее инструментом колониального господства, вознамерившись доказать, что западные описания Востока и, более того, сами попытки Запада познать Восток выступали орудием подчинения. Абзац за абзацем, красноречиво, эрудированно и изощренно, Саид излагал свою точку зрения, утверждая, что вся эта западная ученость опиралась не на факты о Востоке, а на различные выдумки, клише и стереотипы, укоренившиеся в сознании Запада, который никогда не видел Восток таким, каков он есть, а вместо этого видел лишь незначительные штришки и поправки к уже сложившемуся образу.
Секс играет важную роль в воззрениях Саида. Западные представления о сексе на Востоке, отразившиеся в текстах Флобера, Бёртона и Эдварда Уильяма Лейна, чья книга “Манеры и обычаи современных египтян”, написанная между 1833 и 1835 годами, долгое время считалась незаменимым справочником, – все это Саид отнес к той же упрощенной идеологии, феминизирующей Восток, которая в свою очередь является частью общей империалистической программы. Саид цитировал Лейна, чтобы показать, что для Запада главной особенностью восточной сексуальности была “свобода половых сношений”. В действительности если взять книгу Лейна, то можно обнаружить в ней гораздо более сложный, богатый оттенками взгляд на восточную сексуальность: в частности, там говорится о том, что теоретически многоженство разрешено, но встречается оно нечасто. Ну и что? Согласно интерпретации Саида, Запад видел чрезвычайно эротизированный образ Востока, который основывался не на реальности, а на некоей потребности находить на Востоке все то, что укоренилось в западном сознании еще до того, как западные люди начали туда ездить, – “загадочные руины, забытые тайны, скрытые соответствия и почти сказочные картины жизни”, то есть такое место, где можно было сполна удовлетворить романтическую, байроническую жажду экзотических приключений. “Итак, Восток представлялся местом, где можно было искать сексуальных похождений, немыслимых в Европе”, – писал Саид. К таким исканиям примкнули многие писатели, обращавшийся к теме Востока (и тут Саид приводит длинный перечень имен – среди них и Флобер, и “Грязный Дик” Бёртон, и Герман Мелвилл, Андре Жид, Джозеф Конрад и Сомерсет Моэм), чтобы выявить “связь… между Востоком и неограниченной сексуальной свободой”.
Но на самом ли деле существовала такая связь? Действительно ли западным людям на Востоке предоставлялись такие сексуальные возможности, которых не было на Западе, или же все это просто выдумки? На данный вопрос Саид не давал однозначного ответа. К сожалению, создается впечатление, что его вообще не интересовало, каким же в действительности был Восток. Ему лишь хотелось доказать, что те образы Востока, что существовали на Западе, являлись по большей части вариациями на тему других, более ранних образов, восходивших еще к причудливым и по большей части недостоверным рассказам Джона де Мандевиля и ему подобных. Он многократно указывал на то, что “связь” между Востоком и сексом – мнимая, воображаемая, однако никогда не уточнял, в чем именно заключалась правда и чем эта правда отличалась от домыслов.
“Отчего Восток, похоже, до сих пор ассоциируется не только с плодородием, но и с сексуальными обещаниями (и угрозами), с неутомимой чувственностью, безграничным вожделением и могучей порождающей энергией, – вот достойный предмет для размышлений”, – писал он. Размышляя об истоках такого восприятия Востока, Саид для начала мог бы обратиться к скульптурам из Кхаджурахо, но о них он даже не упоминал. Тем не менее он продолжал размышлять и делал вывод, что эротизированный образ Востока, сложившийся в западном воображении, был чем-то вроде кривого зеркала, полной противоположности тому строго регламентированному, ограниченному законами подходу к сексу на Западе, где, особенно в XIX веке, его опутывала “целая паутина юридических, нравственных, даже политических и экономических обязательств, четко прописанных и, без сомнения, весьма обременительных”. И тут являлся образ Востока – заветного места, “где можно исполнить все сексуальные мечты, неосуществимые в Европе”. Если Вольтер видел в китайском императоре XVIII века Цяньлуне короля-философа – идеального правителя, которого он желал бы для Европы, то писатели XIX века вроде Флобера обнаруживали на Востоке территорию просвещенной сексуальности, какую мечтали бы видеть в сексуально подавленной и невежественной викторианской Европе. Европейские писатели, по выражению Саида, искали “иной тип сексуальности – возможно, более раскованный и свободный от чувства вины”.
Так какой же была действительность в различных странах Востока? В самом ли деле существовал этот иной тип сексуальности или люди с Запада просто вообразили, будто он существует? А как же гаремы, которые, вне всякого сомнения, существовали в тех или иных формах в различных краях, раскинувшихся от североафриканских областей, подвластных Османской империи, до самого Китая? А как же Вишну и Лакшми, Шива и Парвати, китайские постельные трактаты? Саид ничего об этом не говорил, как не говорят и его многочисленные последователи, которые позднее тоже пытались проиллюстрировать его главный тезис примерами упрощенной и уничижительной “ориенталистской” фантазии в действии. Никто из них так и не предложил картины, которая уравновесила бы картины, созданные Бёртоном, Флобером и другими. Почему? Неужели потому, что Восток, в отличие от Запада, непознаваем? Но если бы это было так, то, пожалуй, данных исследователей можно было бы обвинить в точно таком же изъяне мышления, который они сами приписывают ориенталистам, а именно в изображении Востока каким-то таинственным краем, окутанным непроницаемым туманом экзотики. А может быть, дело в том, что имеющиеся у нас сведения – те неизбежные шаблоны и стереотипы, всякие “Микадо”, “Турандот” и тому подобное – свидетельствуют о том, что в эротизированном образе Востока все-таки содержится ядро правды, чего никак не желают признавать последователи Саида.
В 1980-е китайские археологи, раскапывавшие древние руины в провинции Хунань, обнаружили клад из еще неизвестных книг, относившихся к II веку до н. э. В одной из них, называвшейся “Наставления о высшем Дао мира”, давались очень хорошие советы женихам. Не забудь о предварительных ласках, говорится там. Наберись терпения, а когда ты увидишь, что соски твоей невесты напряглись, а на носу у нее выступили капельки пота, знай, что она возбудилась и предвкушает наслаждение, что она готова принять тебя. А когда придет пора вводить пенис, обычно называемый “солнечным орудием”, по-китайски ян-цзу, то “вводи его медленно и сохраняй гармонию со своей любимой”. Когда же он окажется внутри пресловутых “нефритовых ворот”, ю-мэнь, продолжает советчик, то двигай им энергично, когда это доставляет удовольствие твоей любимой, но не забывай “иногда замирать, не двигая пенисом в ее влагалище, чтобы дождаться пика ее наслаждения”.
Сегодня в Китае нет недостатка в советах сексуального свойства, однако в течение добрых двадцати лет или даже дольше китайское правительство навязывало своим гражданам обоих полов суровый пуританский режим, не имевший аналогов в мировой истории. Секс был сочтен областью, имевшей государственную важность, и потому сделался предметом строгой регламентации. Особенно в течение примерно десяти лет “культурной революции”, затеянной Мао Цзэдуном для устранения своих соперников в правительстве и для поддержания чистоты революции, само стремление к сексуальному удовольствию приравнивалось к контрреволюционной деятельности. Как-никак, у людей, поглощенных любовными отношениями и сексом, оставалось меньше времени и сил на любовь к Председателю Мао. И мужчины и женщины должны были одеваться в одинаковые мешковатые синие костюмы. Девушкам и женщинам непременно полагалось заплетать волосы в косички. Любовь изгоняли из кино, журналов, газет и театров. В 1950-е новые коммунистические власти возглавили энергичные кампании с целью искоренения проституции и венерических болезней, а в 1960-е руководство страны гордо заявило, что впервые в китайской истории с обеими этими напастями удалось покончить. Однако за впечатляющими достижениями последовала попытка вовсе подавить сексуальное влечение. Казалось, восприняв и взяв на вооружение западные идеи марксизма, вместе с ними Китай перенял и западную традицию связывать с сексом понятие греха.
Кроме того, в тот период создавалось впечатление, будто Китаю всегда был присущ врожденный аскетизм. И действительно, подтверждение такой точки зрения можно найти в самой китайской традиции. Конфуцианство – официальная государственная доктрина, господствовавшая в Китае в течение двух с лишним тысяч лет, – уделяет гораздо больше внимания нравственной чистоте, чем удовлетворению плотских потребностей. Она осуждает распутство, призывает к умеренности и устанавливает строгие правила, регулирующие отношения между полами. В “Книге обрядов” (“Ли цзи”), описывающей общественные обычаи и церемонии древности, говорится, что за исключением выполнения супружеских обязанностей в спальне, которые служат продолжению рода, мужья и жены не должны дотрагиваться друг до друга, даже передавая чашку чая.
Но Китай – это целая вселенная, и в ней есть место чему угодно, в том числе, как указывают “Наставления о высшем Дао мира”, и откровенной, живой и непочтительной эротической культуре, которая осуждала разврат, однако разрешала сексуальное удовольствие для мужчин, разнообразие половых партнеров и проституцию, и все это почти с самого начала письменной истории Китая. Великий историк позднего периода династии Хань, ученый по имени Бань Гу, живший в I веке н. э., включал восемь книг о сексе в длинный перечень самых важных сочинений, существовавших в ту пору. Среди них были “Любовное руководство учителя Цзу Чэна” и “Рецепты для спальни”. Список, составленный Банем Гу, сохранился, а вот упомянутые в нем книги о сексе – нет. Зато в одном стихотворении II века н. э. разговор невесты со своим мужем в первую брачную ночь, похоже, указывает на влияние Баня Гу. Она говорит, что воспользуется наставлениями из одного из тех самых учебников, которые перечислял Бань Гу, “чтобы перепробовать все мыслимые позы”, и предсказывает: “Ничто не сравнится с блаженством этой первой ночи”.
В другом тексте того же времени описываются чудесные танцы плясуний – раннее доказательство того, что в древности имелись плясуньи. “Их тела прекрасны, гибки, как трава, что колышется на ветру. Они пускают в ход все свои чары, и, глядя на них, забываешь о жизни и смерти”.
В Китае, по крайней мере по мнению некоторых ученых, существовали самые ранние руководства и учебники секса, написанные более двух тысячелетий назад, и в придачу к ним богатая эротическая литература. Китайский врач и сексолог Руань Фан Фу (он выступал против репрессивной, по его мнению, сексуальной политики коммунистического правительства и в конце концов эмигрировал в США) писал о том двухлетнем периоде, который он посвятил чтению “запрещенных” книг в особом пекинском книгохранилище, куда обычной публике доступ закрыт. Руань рассказывал, что историческая эротическая литература охватывает все мыслимые сексуальные практики и позы. Излюбленной темой таких произведений является непочтительное описание сексуальных похождений буддийских и даосских монахов и монахинь, которым полагалось сохранять целомудрие. В подобной литературе можно встретить множество упоминаний инцеста и педофилии, а также полного набора сексуальных техник вроде мастурбации, оральной и анальной стимуляции наряду с одновременной взаимной стимуляцией, широко известной под названием “69”. Вот что еще можно обнаружить в богатой эротической китайской литературе: гомосексуальные отношения мужчин и женщин, описанные “с дотошными и сочувственными подробностями”, трансвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, садизм и мазохизм, доминирование, подчинение, некрофилию, урофилию и изнасилование.
Руань составил этот список с целью проиллюстрировать свой главный тезис, а именно что вопреки стандартному образу Китая как сексуально угнетенной и консервативной страны китайская традиция в действительности демонстрировала поразительную терпимость к сексуальным удовольствиям и практически ничего не говорила о грехе и вине, которые ассоциируются с сексом в христианской традиции. Подобно другим ученым, среди которых важнейшее место занимает великий голландский синолог Роберт Ханс ван Гулик, первый западный автор, всерьез взявшийся за изучение сексуальной истории Китая, Руань уделил пристальное внимание поэтическому восприятию искусства любви. Оно нашло выражение в метафорах, какие вошли в обиход в Китае: кроме “солнечного орудия” и “нефритовых ворот” употреблялись выражения “перейти через снежные горы” (ласкать женскую грудь), “добыть огонь на горе” (вход сзади), “раскрыть цветок пиона” (куннилингус) и “увлажниться влагой горящей свечи” (женщина сверху).
Секс занимает прочное место в основной конфуцианской космологии: отношения между мужчиной (ян) и женщиной (инь) как в зеркале отражают отношения между небом и землей, солнцем и луной, огнем и водой. Даосы – инакомыслящие, уклонившиеся от конфуцианской ортодоксии, – занимались алхимическими опытами, верили в возможность бессмертия и отличались большей свободой духа по сравнению с конфуцианцами. Они разработали особые эротические теории, которые звучат прямо-таки оправданием многоженства и разнузданного распутства.
Согласно теории даосов, женская сущность (инь) укрепляет мужскую (ян). На практике это означает, что мужчинам следует впитывать соки инь от как можно большего числа женщин, а такое впитывание происходит во время соития. “Смена партнерш может привести к долголетию и бессмертию”, – говорится в одном даосском трактате о многоженстве, написанном в VI веке н. э. и озаглавленном “О том, как отдалить кончину, вскармливая природные силы”. Его автор продолжает: “Если мужчина совокупляется только с одной женщиной, то инь-ки [женская жизненная энергия] остается слабой, и пользы от этого мало. Ибо если Дао начала ян подобно огню, то Дао начала инь подобно воде, а вода способна затушить огонь… Если же мужчина совокупится с двадцатью женщинами и не извергнет семени, то в старости у него будет телесная крепость и прекрасный цвет лица”.
Но, чтобы кто-нибудь не подумал, что мужчине никогда не следует извергать семя, дабы избежать морщин в старости, другие тексты предупреждают: хотя умерять свои порывы хорошо, впадать в крайность все же не очень здорово. Если мужчина вознамерится никогда не эякулировать, то “моча его сделается гнилостной, его начнут преследовать злые духи – инкубы и суккубы”. Основное положение даосской доктрины, которое некоторые ученые прослеживают в ранних китайских учебниках секса, гласит, что важно иметь много партнерш, причем очень юных. В даосской литературе сексуальных партнерш называли словом дин, которое в первую очередь означало бронзовый котел на треножнике – такие можно увидеть в любом музее, где выставлены древние китайские изделия из бронзы. Эти котлы применялись в алхимических опытах, а значит, тут проводится связь между поиском эликсиров, призванных обеспечить здоровье и долголетие, и сексуальным способом достижения тех же целей. В идеале возраст партнерши-дин должен составлять 5048 дней, учит теория даосов. Иными словами, девушке должно быть около четырнадцати лет. Излишне говорить, что она должна быть девственницей, тогда ее запас энергии инь еще не истощен. Та же логика предписывает часто менять партнерш и объясняет, почему важно всегда находить новых партнерш, чей запас инь еще не почат.
Китай проходил разные фазы развития, сексуальная свобода здесь то переживала расцвет, то ущемлялась. В знаменитом эротическом романе “Жоу пу ту ань” (“Подстилка из плоти”), написанном в поздние годы эпохи Мин, отразились оба типа отношения к сексу. В центре сюжета – история молодого ученого, чья чопорная жена холодна в постели. Он показывает ей альбом с эротическими картинками “Весна царит во всех тридцати шести дворцах”, где каждый “дворец” означает особую любовную позу. После этого жена уже ни в чем ему не отказывает. По странному совпадению, ван Гулик взялся за исследование сексуальной истории Китая после того, как откопал в пекинской антикварной лавке подборку порнографических картинок эпохи Мин. Ван Гулика знают и любят в основном за серию детективов, написанных в разные годы, где судья Ди (персонаж, у которого существовал реальный прототип, живший в эпоху Мин) раскрывает различные преступления. Однако для китаистов главная заслуга ван Гулика – это его классическая книга “Сексуальная жизнь в Древнем Китае”.
Ван Гулик утверждал, что в Китае сохранялось свободное и непредубежденное отношение к сексу в течение по крайней мере двух тысячелетий, однако затем, с воцарением монгольской династии, продержавшейся у власти с 1206 по 1368 год, оно приобрело более репрессивный характер. Поскольку монголы были иноземцами и варварами, китайцы завели обычай прятать жен и дочерей, чтобы те не подверглись насилию со стороны завоевателей. При более строгих авторитарных правителях более поздних династий контроль над сексуальной жизнью увеличивался, делаясь инструментом диктаторской власти. Официальная неоконфуцианская философия династии Мин заново усиливала ханжеские позиции официальной идеологии Китая, которая всегда делала упор на строгом соблюдении благопристойности в сфере секса.
Но, несмотря на официальное ханжество эпохи Мин, китайская эротическая традиция, согласно описанию ван Гулика, оставалась богатой и разнообразной. Она включала порнографические романы, трактаты о сексуальном наслаждении, расхожие романы о куртизанках и наложницах, а также даосские обычаи, сохранявшиеся на протяжении всей китайской истории. Даже при монгольской и более поздних династиях продолжали создаваться эротические произведения как в литературе, так и в живописи. Популярная литература, рассказывавшая истории про проституток и куртизанок, появилась в эпоху Тан (с VII по X век) и просуществовала до XX века. В одной летописи эпохи монгольской династии (она называлась “Хроники зеленых беседок”) содержались жизнеописания семидесяти куртизанок того времени. Среди них было много знаменитых певиц и актрис. Словом, китайская эротическая культура, свободная от христианской традиции связывать воедино удовольствие с грехом и не омраченная угрозой вечных мук в загробной жизни, похоже, всегда переживала любые попытки подавить ее, со стороны ли неоконфуцианских идеологов или, много веков спустя, поборников социалистической морали.

Эротическая цветная гравюра эпохи Мин, опубликованная в 1624 г., изображает монаха, готовящегося к “раскрытию цветка пиона”, с женщиной в наряде странствующей монахини в присутствии ее служанки. Koninklijke Brill N.V.
А еще была проституция, которую впервые запретили в Китае в 1949 году, когда к власти пришли коммунисты. Упоминания “казарменных блудниц” – проституток, организованно обслуживавших императорских солдат, – восходят еще ко II веку до н. э. Проституция процветала всегда и подобно институту наложниц считалась в Китае естественным и неизбежным явлением, которое государство должно регулировать, но ни в коем случае не запрещать. В конце XIII века, когда страной правили монголы, Марко Поло записал, что в Пекине число проституток, должно быть, составляет около двадцати тысяч, а в Ханчжоу, южной столице монголов, их бесчисленное множество. В одном документе XIX века – “Воспоминаниях о хижине в сливовом цвету”, написанном неизвестным автором под псевдонимом Мастер Цветов Сливы, – содержатся практические советы проституткам. Среди них есть такое наставление: “Твоя работа – удовлетворять мужские желания, а не твои собственные”, а потому в случае необходимости “изображай оргазм, даже если мужчина кончает, едва войдя в тебя”. Неизменно терпимое отношение к проституции сохранилось даже после того, как последнюю императорскую династию свергли современно настроенные националисты-революционеры во главе с Сунь Ятсеном. В 1929 году в Пекине имелось 332 зарегистрированных публичных дома, 3752 зарегистрированные проститутки и много тысяч незарегистрированных. В 1920-м в Шанхае число зарегистрированных проституток составляло 60 141.
Наконец, можно вспомнить еще один пример пристрастия к эротике, точнее к ее странному, пожалуй, даже уникальному проявлению, – обычай бинтовать девочкам ноги, чтобы сделать их более привлекательными, когда те станут женами или наложницами богатых и влиятельных мужчин. Возник этот обычай, по-видимому, в X веке и просуществовал в течение тысячи лет, пока его наконец не запретили в эпоху Республики. Девочкам начиная с шести лет туго бинтовали тканью ступни, чтобы те перестали расти, кости деформировались, ступня как бы загибалась внутрь. По сегодняшним меркам это был чудовищно жестокий и глупый обычай, и тем не менее в течение целого тысячелетия маленькую ножку в Китае считали весьма эротичной и желанной, даже не столько саму ножку, сколько изящную, с покачиваниями походку женщины с перебинтованными ступнями. Такая хрупкая, крошечная ножка вызывала одновременно “жалость и вожделение”, как писал главный западный исследователь этого обычая. Мужчине “хотелось прикоснуться к ней, а когда он получал на это позволение, это означало, что женщина принадлежит ему”. Обычай “вызывал к жизни целый репертуар эротических жестов: мужчина целовал, посасывал, засовывал ступню к себе в рот, восхищенно прикладывал ее к своим щекам, груди, коленям или члену”. Пускай сегодняшние “левые” ученые и думают, что любые эротизированные образы Востока зародились исключительно в буйном западной мужской фантазии, однако бинтование ног фантазией не было. Оно неопровержимо доказывает, что, во-первых, женское тело подчинялось власти необузданных и неприкрытых мужских желаний, а во-вторых, что в Китае существовала сексуальная культура, обычаи и нормы которой очень сильно отличались от западных.
Даже конфуцианство, хотя оно и требовало благопристойности, осуждало распутство и похоть и запрещало мужчинам хвастаться красотой своих женщин, никогда не считало секс греховным или аморальным. С мужа не снимались супружеские обязанности, и жена имела право на сексуальное наслаждение, поэтому мужчине позволялось иметь нескольких жен и наложниц при условии, что он будет соединяться с каждой из них хотя бы раз в пять дней до тех пор, пока те не достигнут пятидесятилетия.
Но, что для нас сейчас важнее, даже официальное конфуцианство никогда не превозносило моногамию как некую ценность – полная противоположность христианству. Как и в большинстве стран от Османской империи и далее на восток, в Китае официально признавалась полигамия, которая просуществовала там тридцать пять столетий, начиная с первой императорской династии Чжоу, правление которой приблизительно соответствует эпохе царств в истории древнего Израиля. Ван Гулик объясняет традицию многоженства древним обычаем, согласно которому китайские мужчины обязаны были приносить жертвы в память предков, а потому люди заранее задумывались о грядущей смерти и, так как им самим предстояло когда-нибудь сделаться умершими предками, стремились произвести на свет потомство мужского пола. Потому что, если жертвоприношения прекратятся, писал ван Гулик, “предки могут ослабеть и либо превратиться в злых духов, либо провалиться в промежуточный мир, и это будет иметь катастрофичные последствия для их живых потомков”. Таким образом, священным долгом каждого мужчины было зачатие сыновей, а самым верным средством достичь этой цели – сожительство с несколькими женщинами сразу.
А может быть, многоженство – это просто очередное удовольствие для мужчин. Разумеется, гаремная культура всегда создавалась мужчинами и предназначалась для мужчин, да и вся эта даосская философия с ее понятиями инь и ян тоже была нацелена на мужское, а не женское процветание. Если говорить о сексе, то на Востоке в выигрыше всегда оказывались мужчины, и это одна из причин, по которым многие западные мужчины начали ездить на Восток, когда появилась такая возможность, и многие продолжают делать это до сих пор.
Это не значит, что для азиатского общества была характерна сексуальная свобода в современном западном понимании. Речь вовсе не шла о том, что отдельные независимые личности не подвергались надзору со стороны политических или религиозных организаций и вольны были вести себя так, как им вздумается. Такого на Востоке не было никогда. Особенно женщины – будь то “хорошие” дочери из уважаемых семейств, которым полагалось хранить девственность до брака, или то сословие женщин, чья роль заключалась не в замужестве, а в обслуживании эротических потребностей богачей, – всегда оставались под строгим мужским контролем.
Но гаремная культура делала Восток непохожим на Запад, быть может, не в том, что касалось самых расхожих и упрощенных стереотипов, однако эта непохожесть проявлялась во многом и делала Восток экзотикой в глазах Запада. Исторические свидетельства доказывают, что это не просто фантазия. Гарем, где бы он ни находился – в Стамбуле, в Пекине или при дворе Великих Моголов в Дели, – занимал огромное, центральное место. Это было учреждение, породившее собственные обычаи, традиции и интриги и вдохновившее множество изобразительных и литературных произведений. Гарем являлся политическим инструментом. Когда султан Мухаммад, заточенный в темницу первый сын могольского императора XVII века Аурангзеба, был возвращен ко двору, он внезапно снова снискал милость в отцовских глазах. Его восстановление в правах ознаменовалось расширением его гарема, который пополнился тремя новыми женами, причем две из них были дочерьми индуистских вождей, с которыми могольский двор желал поддерживать добрые отношения. В Китае какой-нибудь полководец или министр мог получить в подарок императорскую наложницу, тогда как на Западе дарить любовниц в награду за добросовестную службу было не принято. Разумеется, и на Западе власть облегчала доступ к сексу, но только на Востоке верная служба правителю становилась залогом возрастания эротических радостей.
Гарем же породил сословие евнухов – особый человеческий тип, который также не был известен на Западе (за исключением кастратов в итальянских операх) и вызвал к жизни обширную и интересную субкультуру. Французский врач конца XIX века, некий доктор Матиньон, присутствовал при операциях, проводившихся в Пекине примерно в 1890 году, – как правило, на мальчиках, которых приводили к хирургу, чтобы тот подготовил их к службе в императорском хозяйстве. По свидетельству Матиньона, операцию проводил один из кастраторов (это была наследственная профессия), и “она была грубой: одним ударом острого ножа отсекались и пенис, и мошонка”. Мы уже видели, что Ричард Бёртон описывал (несколько живописнее) кастрацию у арабов, на Ближнем Востоке, где тоже существовал обычай оскоплять юношей для службы в гаремах. И Матиньон, и Бёртон упоминали, что большинство мальчиков, перенесших операцию, оставались живы, хотя у Матиньона сказано, что умирало от трех до шести процентов.
И конечно же, гарем породил типично восточный вариант повсеместного явления соперничества и борьбы за власть как внутри самого императорского гарема, так и внутри императорской семьи. В китайской литературе полно подобных историй, где рассказывается, как император без памяти влюбился в одну из наложниц и та сделалась полновластной правительницей страны. “Вечная печаль”, или “Песнь о бесконечной тоске”, – эпическая поэма Бо Цзюйи и один из шедевров классической китайской литературы – представляет собой рассказ о страстной любви, измене и смерти. Главная героиня – Ян-Гуйфэй, возлюбленная императора Сюянь-Цзуна, жившего в VIII веке. Ян так завладела сердцем императора, что он стал пренебрегать своими обязанностями, и это приблизило самое знаменитое в истории Китая восстание, которое возглавил талантливый и тучный военачальник Ань Лушань. Ян, простая крестьянская девушка, достигла такого могущества, что полководцам приходилось подкупать ее сестер, чтобы снискать благоволение императора, а пошивом одежды для нее занималось семьсот белошвеек. Следует отметить, что она была не женой, а наложницей императора. Когда мятеж Ань Лушаня потерпел крах, из-за твердой убежденности многих людей в том, что Ян-Гуйфей была причастна к мятежу, императору пришлось отдать приказ задушить ее. Как говорят в Голливуде, сюжет “Вечной печали” основан на реальных событиях.
В 1990-е среди антропологов велись споры о британском первооткрывателе, капитане Куке, который исследовал Новую Зеландию, Австралию и Новую Гвинею, составил карту Южнотихоокеанского региона и был убит в 1779 году жителями Гавайских островов. Принято считать, что гавайцы приняли Кука за бога – точнее говоря, за бога плодородия Лоно, – и обожествили его в первый приезд, когда он посетил Гавайи в сезон мира. Когда же он вновь приплыл на эти острова, там был сезон войны. Гавайцы напали на капитана и его команду, и Кук был заколот в схватке.
Среди антропологов разгорелись жаркие дебаты: в самом ли деле гавайцы приняли Кука за бога? Эта легенда – просто бессмыслица, утверждает главный оппонент общепринятой версии, уроженец Шри-Ланки и ученый из Принстонского университета Гананат Обейесикр, который в своей книге “Апофеоз капитана Кука” утверждает, что “практический разум” гавайцев ни за что не позволил бы им принять за Лоно какого-то краснощекого англичанина. Наоборот, обожествление Кука – всего лишь часть западного мифа, подспудная цель которого – принизить туземцев, уподобив их неразумным детям, и тем самым оправдать имперские завоевания.
И тут в полемику вступает Маршалл Салинс, антрополог из Чикагского университета. В своей работе “Что думают “туземцы”, например, о капитане Куке” он возразил, что предложенное Обейесикром понятие практического разума в данном случае просто западный подлог, нежелание принять тот факт, что культуры очень разнятся между собой и что одни люди думают и поступают совсем иначе, чем другие. Действительно, говорил Салинс, даже жителям предположительно рационального, рассудочного Запада порой отказывает этот самый “практический разум”, о чем явно свидетельствует распространенная вера в привидения, медиумов, ясновидящих и инопланетян. Отрицать же наличие веры в сверхъестественное у гавайцев, живших в XVIII столетии, “даже не удосужившись провести этнографическое исследование”, значит “приписывать им наивысшие западные буржуазные ценности”, отняв у них тот пронизанный присутствием духов мир, в котором они, по их собственным представлениям, и жили. А еще это значит навязывать свои политические взгляды другому народу, желая сделать его – из политических соображений – похожим на нас самих.
Но другие народы не похожи на нас – ни религией, ни отношением к сексу. Восток – очень широкое понятие, пожалуй, даже чересчур широкое: в прошлом, как и сейчас, разные восточные страны и области во многом заметно отличались друг от друга. Однако большинство из них объединяла как раз их общая непохожесть на Запад. Тот эротический мир, который западные люди обнаруживали на обширных территориях, что тянутся от Марокко до Шанхая и охватывают Индию, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию, действительно удивлял их сексуальными реалиями, отличными от тех, что имели место у них на родине. Пускай люди и предавались фантазиям, пускай мыслили стереотипами, но все-таки этот мир существовал в реальности, и опыт тоже был реальным. И думать иначе, приписывать все одной только фантазии, не удосужившись провести этнографическое исследование, как выразился Салинс, значит совершать всего лишь некий идеологический жест.
Глава 9
Что случилось с гаремом?
Любовь могольского императора Шах-Джахана к своей третьей жене, носившей поэтичное имя Мумтаз-Махал (что значит “Любимое украшение дворца”), – несомненно, самая знаменитая в Индии история любви и верности, вдобавок оставившая себе прекраснейший долговечный памятник. Шах-Джахан построил Тадж-Махал как гробницу для своей любимой, родившей ему четырнадцать детей. Неподалеку стоит Красный форт – императорская резиденция Великих Моголов, где последние восемь лет своей жизни Шах-Джахан провел узником: в заточение его поместил родной сын, Аурангзеб, узурпировавший императорскую власть. И там, под каменными сводами, Шах-Джахан, по легенде, целыми часами смотрел сквозь решетку балюстрады на мавзолей Мумтаз.
Примечательно, что Аурангзеб, по мнению некоторых историков, стоял у истоков тех перемен в Индии, что положили конец эротической свободе и привели к внедрению эротических запретов. Аурангзеб правил с 1658 по 1707 год, он завладел троном, убив всех трех своих братьев (и нескольких их сыновей) в борьбе за власть, вспыхнувшей, как только у Шах-Джахана ослабло здоровье. Будучи сыном нежной Мумтаз и романтичного Шах-Джахана, сам Аурангзеб оказался воинственным суннитом-фундаменталистом и отличался от прежних могольских правителей приверженностью строгому и требовательному толкованию исламского закона. Насколько беспощадным он проявил себя в преследовании индусов – вопрос спорный. Историки-индусы убеждены, что Аурангзеб намеревался уничтожить все, что казалось ему немусульманским, а их коллеги-мусульмане в той же степени убеждены, что император нападал на индуистские обычаи лишь тогда, когда они представляли угрозу его политическому могуществу.
Бесспорно то, что он действительно уничтожил несколько важных индуистских храмов и святилищ, в том числе храм XII века в Сомнатхе и храмы в Варанаси и Матхуре – месте рождения Кришны, которого Аурангзеб считал одним из ложных богов индуизма. Затем он переименовал Матхуру в Исламабад (впоследствии городу вернули прежнее название). Аурангзеб приказал восстановить и “сделать как новые” все старые мечети и монастыри, превратившиеся в руины из-за пренебрежительного отношения прежних правителей, и приставил к ним для присмотра особых имамов на жалованье. В одном только Дели на средства из государственной казны содержалось шестьсот мечетей. Аурангзеб учредил новую нравственную цензуру, чтобы заставить рядовых людей строго соблюдать мусульманские законы, так что, процитируем летописца тех времен, “изобретатели всяких новшеств, безбожники, еретики, сбившиеся с прямого пути ислама, неверные, лицемеры и духовно безразличные люди, какие развелись в Индии, подвергались наказанию и были вынуждаемы отказаться от своей неправедной жизни”. Среди привычек, которые влекли за собой наказание, были пристрастие к алкоголю, азартные игры и “неподобающее общение между полами”. На одиннадцатом году правления Аурангзеба при дворе была запрещена музыка, и знати отныне не разрешалось слушать песни. С ворот Красного форта в Агре убрали двух каменных слонов (как запретных “истуканов”). Все, что хоть немного отдавало индуизмом, изгонялось с императорского двора, даже повседневный индуистский жест приветствия (поднесение ладоней к голове).
В целом ислам, который пришел в Индию вместе с моголами-завоевателями, разумеется, стоял гораздо ближе к христианству в своем отношении к сексуальной жизни, чем индуизм – особенно такой индуизм, который находил выражение в скульптурах из Чолы и в чувственных изображениях богов. В целом мусульмане гораздо сильнее тяготели к отречению от удовольствий, чем к разнузданной сексуальности. И все-таки индуизм при Великих Моголах продолжал существовать, особенно на юге Индии, где исламское учение проповедовалось мало или вовсе оставалось неизвестным. Но даже и на территориях, находившихся непосредственно под контролем моголов, большинство индуистских храмов сохранились в неприкосновенности, так что нельзя говорить о каком-либо тотальном уничтожении индуистских традиций. Во многом то, что позднее случилось с британцами, уже тогда происходило с мусульманами: они перенимали повадки махараджей. При императорских дворах в Дели и Агре – и, как мы вскоре увидим, в других крупных центрах Могольской империи, – преемники Аурангзеба держали многочисленных жен и наложниц, и их примеру следовали различные навабы, махараджи и заминдары, разбогатевшие благодаря управлению деревнями и сельскими поместьями. Один из внуков поборника скромности Аурангзеба заказал художнику миниатюру, которая изображала его в постели с наложницами. Куртизанки, танцовщицы и наложницы, эти главные действующие лица гаремной культуры, неизменно присутствовали в картине жизни индийского общества – и мусульманского, и индуистского.
Но при Аурангзебе атмосфера изменилась. Наметился уклон в сторону более сурового и требовательного ислама, в чем-то уже предвосхищавшего ваххабитское “пуританство”, которое позднее возникнет в Аравийской пустыне, и уход от относительно беззаботного сенсуализма прежних индийских традиций. Аурангзеб отверг легкомысленный эклектизм таких своих предшественников, как Акбар – первый из династии Великих Моголов, родившийся в Индии, и любитель культурного разнообразия, как сказали бы сегодня. Акбар отмечал индуистские праздники, брал в жены индусок, привлекал индусов-союзников в ряды моголов, делая их эмирами или принимая в знатное сословие. Аурангзеб, напротив, был суров, нетерпим и воздержан. В удовольствиях он видел тщету и наваждение. Он создал нечто вроде полиции нравов, предвосхитив тем самым события XX века, когда муллы захватили власть в Иране и ненадолго – в Афганистане. А еще Аурангзеб стал последним из великих и всемогущих могольских правителей. После его смерти империя, созданная воителями, говорившими на фарси, некогда явившимися из Афганистана, начала медленно таять. Ее поглощала Британия, проводившая в жизнь свою политику постепенного расширения. А с приходом британцев и прочих викторианцев, которые явились за ними следом, – чопорных управляющих, миссионеров, социальных реформаторов, стремившихся освободить индийских женщин от оков “средневековой” рабской зависимости, – сексуальной культуре Индии предстояло пережить величайшее испытание.
В 1870 году Изабелла Тоберн – пламенная, глубоко религиозная и предприимчивая миссионерка-методистка из Сент-Клерсвилла (штат Огайо) – прибыла в бывший могольский центр культуры и искусства Лакхнау и немедленно принялась спасать его от погибели. Тридцатилетняя незамужняя Тоберн была не первой протестантской миссионеркой в Лакхнау, хотя до начала XIX века в Индии всякая миссионерская деятельность была запрещена – вплоть до этого времени британские власти опасались оскорбить религиозные чувства как индусов, так и мусульман. Но в 1813 году британцы распахнули двери Индии для миссионеров, уступая давлению со стороны евангелистов, которые утверждали, как выразился великий парламентарий и воинственный противник рабства Уильям Уилберфорс, что “наша религия – возвышенная, чистая и благотворная, а их вера – подлая, распутная и жестокая”. Здесь следует обратить внимание на слово “распутная”, так как британцы приняли историческое решение – пожалуй, историческое скорее для самой Индии, нежели для британцев, – ознаменовавшее начало новой эпохи в британском отношении к Индии: если раньше англичане придерживались политики невмешательства в местную культуру, то отныне они заняли нетерпимую и неуважительную позицию. Индия превратилась в поле деятельности не только для миссионеров, но и для моральных “крестоносцев” и разнообразных общественных благодетелей, которые рьяно взялись выполнять цивилизаторскую миссию в ее британском варианте. “Разве сторож я индусу, индейцу, готтентоту?” – риторически вопрошал англиканский епископ из Оксфорда, приходившийся к тому же сыном Уильяму Уилберфорсу, а потом сам давал ответ, в котором по сегодняшним меркам слышится и самодовольство, и снисходительность: “Если все мы произошли от одних родителей, тогда и дикарь-скиталец, и размалеванный варвар суть братья твои”. Среди следствий такого нового, “крестоносного” подхода было и новое ужесточение, касавшееся сексуальных контактов между колонизаторами и колонизованными. Хотя, как доказывает пример Бёртона, едва ли они когда-либо прекращались. Другим, гораздо более важным следствием стало распространение миссионерских школ для индийских детей. Там дети подвергались, как выразился историк Лоренс Джеймс, “грубейшей и глупейшей пропаганде”.
Важно отметить, что в силу престижа колониальной власти эти миссионерские школы пользовались большой популярностью среди индийцев, стремившихся пробиться в высшие слои общества, хотя сами индийцы никогда не принимали христианство в массовом порядке. В результате сформировалась некая новая элита, воспитанная в духе протестантизма и западной сексуальной морали, причем не только в формально христианских школах, но и в британской образовательной системе в целом. Большинство лидеров движения за независимость Индии, в том числе сам Ганди (Лондонский университетский колледж) и Джавахарлал Неру, первый премьер-министр Индии (Харроу, затем Кембридж), были детьми западного воспитания, на его основе создававшими некую гибридную культуру. Ни Ганди, ни его друга Мотилала Неру, отца Джавахарлала, носивших национальную индийскую одежду, никак нельзя было назвать смуглыми англичанами. Однако с годами тот престиж, которым пользовалось образование западного образца, способствовал переменам, начавшимся еще при Аурангзебе (хотя сам Аурангзеб ориентировался, конечно же, на иные идеалы, нежели христианская Европа). Это были серьезные перемены, повлекшие за собой множество последствий. В том числе они ускорили разрушение той сексуальной культуры, которая существовала в Индии на протяжении веков. И этот закат сексуальной культуры Индии представляет собой исключительный феномен мировой важности. Незадолго до прибытия Изабеллы Тоберн в Лакхнау в большинстве стран мира еще преобладала гаремная культура (я уже много раз употреблял этот термин), и лишь в немногочисленных странах Запада, на небольшом пространстве христианского полуострова, господствовала совершенно иная идеология. К тому времени, когда Тоберн сошла со сцены, то есть к началу XX века, западный идеал моногамии уже успел стать глобальной нормой. Такой колоссальный общественно-нравственный сдвиг произошел отчасти благодаря изменению британской позиции. Одно время англичане, жившие в Индии, видели в этой стране просто праздничное зрелище, и британские набобы охотно имитировали индийский стиль в своих роскошных домах. В XIX веке многие британцы – особенно те, кто сравнивал Индию со своей викторианской родиной, – считали ее отсталой и ужасной страной, нуждавшейся в неотложных реформах. В то же самое время и колонизированные индийцы, немного походя в этом на средний класс в Англии, усвоили и впитали викторианскую сексуальную мораль, отчасти из снобистского желания отождествить себя с завоевателями. А потом, спустя десятилетия, когда уже сама Британия и остальные страны Запада стали исповедовать почти языческие, во всяком случае явно не викторианские, взгляды на сексуальную жизнь, в которых парадоксальным образом была заново оценена древнеиндийская эротическая культура, тот эротический консерватизм, который переняли индийцы, продолжал стойко существовать в самой Индии.
Лакхнау как один из самых крупных городов северной Индии стал естественной мишенью для миссионерской деятельности, и наибольшее влияние там, по-видимому, обрели американские методисты. В 1862 году методист Дж. Г. Мессмор основал там учреждение, которому впоследствии предстояло стать Христианским колледжем Лакхнау. Оно и по сей день остается одним из главных образовательных заведений в городе. Церкви существовали в Лакхнау уже давно, потому что европейцы селились и преуспевали там еще во второй половине XVIII века. Миссионерам, уже работавшим в городе, среди которых был и брат Изабеллы Джеймс Тоберн, удалось обратить некоторое количество людей там и в окрестных деревнях, так что небольшая христианская община уже имелась. Именно Джеймс написал Изабелле, еще остававшейся в Сент-Клерсвилле, и попросил ее приехать в Индию для выполнения задачи, которая оказалась не по силам миссионерам-мужчинам. Поскольку мусульманские обычаи возбраняли посторонним мужчинам какие-либо контакты с местными женщинами (разрешалось разве что беседовать, как он выразился, с “невидимками”, сидевшими за ширмой), Джеймс понял, что с великой задачей дать образование и внушить христианскую веру индианкам могла бы справиться лишь женщина-миссионерка. Именно это он и предложил своей сестре Изабелле.
Она взялась за работу с огромным воодушевлением и фактически посвятила ей всю свою дальнейшую жизнь. Получив финансовые средства от недавно образовавшегося Женского иностранного миссионерского общества при методистской епископальной церкви, она отплыла из Нью-Йорка 3 ноября 1869 года и примерно три месяца спустя прибыла в Лакхнау. Часть путешествия она проделала на телеге, запряженной волами. Первейшая задача, решила Изабелла, – это научить индийских девочек читать: это умение не только станет главным средством их духовного спасения, но и даст им в дальнейшем возможность самим стать “туземными миссионерами” и разносить Благую весть по самым дальним уголкам Индии. Надо сказать, что Тоберн обладала сильной практической, “приземленной” жилкой: ей очень хотелось улучшить жизнь женщин сразу же, без лишних промедлений, и это желание сопровождалось постоянным ощущением, что ее главная и конечная цель – спасать души в обществе, трагически лишенном духовной благодати.
Ей сопутствовал ошеломительный успех. Через несколько месяцев после приезда она открыла школу для девочек, разместившуюся в одной комнатушке с глинобитными стенами, на шумном городском базаре. Вначале там занималось всего шесть (согласно некоторым источникам – семь) учениц, но школа, прославившись отличным качеством преподавания, стала быстро разрастаться. Туда принимали всех желающих – и христианок, и иноверок. Спустя всего год школа превратилась в школу-пансион: так учителям было легче “ограждать учениц от разлагающего влияния языческого окружения”. У Тоберн был настоящий талант собирать денежные средства, и через шесть лет после основания школы, имея в своем распоряжении семь тысяч долларов из пожертвований, она смогла купить “Лал-Багх” – красивую виллу, принадлежавшую раньше казначею бывшего наваба Лакхнау. Иными словами, могольский особняк был обращен в центр христианского воспитания, и это знаменовало водворение новых порядков. В 1888 году американские методисты, убежденные доводами Тоберн, которая говорила о необходимости готовить индианок к “выходу в большой мир и началу важной деятельности”, пожертвовали значительные средства, какие требовались для создания Христианского колледжа Лакхнау. В 1902-м он было переименовано в колледж Изабеллы Тоберн – вскоре после того, как сама Изабелла в возрасте шестидесяти одного года умерла в Лакхнау от холеры.
Колледж Изабеллы Тоберн существует по сей день, там учится более тысячи юношей и девушек, и располагается он во внушительном неоклассическом здании на пересечении Университетской и Файзабадской улиц. Это одно из заведений, которые несколько лет назад слились воедино, образовав Университет Лакхнау. Говорят, что он пользуется особой популярностью у “среднего и высшего класса, среди городских индийских семей, которые хотят дать своим дочерям образование английского образца”. Среди учителей, работающих в индийском штате Уттар-Прадеш, много выпускников университета.
В 1900 году, когда Тоберн в последний раз в жизни приехала в отпуск в Соединенные Штаты для очередного сбора средств для своей миссионерской деятельности, она привезла с собой одну из звезд из числа своих учениц, Лилавати Сингх, чтобы продемонстрировать американцам, какие колоссальные успехи ждут в будущем образованных индийских женщин. Сингх, облаченная в индийский наряд, держась гордо и вместе с тем скромно, произвела настоящую сенсацию, призвав слушателей поддержать великое дело – христианское образование для индийских женщин. Послушав ее речь в Нью-Йорке, не кто иной, как Бенджамин Гаррисон, бывший президент страны, воскликнул: “Выдай я миллион долларов иностранным миссиям, я счел бы это мудрым вложением средств, если бы оно привело к обращению хотя бы одной только этой женщины!” Рассказывая о цивилизаторской миссии Тоберн, Сингх заявила, что шестьсот выпускниц ее школы уже ведут “христианскую работу” по всей Индии. Ее речь, несомненно, заворожила аудиторию обещанием славного будущего. “И я говорю: не кто иной, как Иисус, заслужил эту драгоценную диадему – Индию! – говорила она. – И Иисус получит ее!”
Но Иисус так и не завладел Индией, где до сих пор преобладает индуистское и мусульманское население: обращение в христианскую веру (когда о нем вообще шла речь) происходило не среди элиты общества, а среди обездоленной бедноты. И все-таки можно усмотреть поразительно уместный знак нового времени в самом факте того, что Изабеллу Тоберн направили в Лакхнау – город, который всего за несколько лет до ее приезда пользовался славой, как выразился один местный историк, “последнего образца старой пышности и утонченности Индостана, напоминанием о былых эпохах”.
Лакхнау расположен на равнине в северной Индии, туда за несколько часов можно доехать на ночном поезде из Нью-Дели, и в этом смысле он служит особенно наглядной иллюстрацией изменений, происходивших в Индии в течение последних десятилетий колониального правления. Сегодня этот город являет собой картину разрухи и нищеты, а множество ветшающих зданий из песчаника смотрятся лишь печальным напоминанием о былом величии могольской эпохи. Однако в конце XVIII века Лакхнау являлся большой и космополитической столицей мирового уровня, средоточием оживленной торговли и изысканного гедонизма. Как выразился Джон Кей, британский историк Индии, это был город, где “монументальное великолепие Дели времен Шах-Джахана сочеталось с благовонным обаянием Багдада Шахерезады”. Путешественник, побывавший в Лакхнау в конце XVIII века, описывал его как “скопление дворцов, минаретов, лазурных и золотых куполов, сводов, колоннад, длинных уличных перспектив с фасадами домов, украшенными колоннами и пилястрами, крыш с террасами”. Рассказывали, что в Лакхнау даже куртизанки читали наизусть любовные стихотворения на урду. Как писал Кей, вокруг местного наваба “так и роились евнухи, куртизанки, наложницы и катамиты”. “Словом, – заключал Кей, – в меру своих ограниченных способностей последние навабы из кожи вон лезли, усердно разыгрывая роли погрязших в роскоши и разврате восточных деспотов, какими тех рисовало европейское воображение”.
Облик Лакхнау формировался при нескольких поколениях второстепенных могольских правителей – чиновников, которые строили этот город вскоре после смерти Аурангзеба, когда великая империя начала рушиться, а централизованная власть – сходить на нет. Первым могольским правителем Лакхнау был Саадат-Хан, уроженец Персии, который получил должность наваба Ауды (бывшего княжества, которое сейчас является частью Уттар-Прадеша) от императора из Дели, но затем сумел сделать свое княжество фактически независимым. Его внук, Шуджа уд-Даула, ставший навабом в 1754 году, постарался превратить Лакхнау в богатый космополитический центр и во многом создал ему специфическую славу места, где люди с ненасытной жадностью охотятся и за деньгами, и за удовольствиями.
В действительности Шуджа потерпел поражение в битве с британцами, продолжавшими во второй половине XVIII века управлять Индией в основном через туземных махараджей, навабов и могольский двор в Дели, которому все еще теоретически подчинялась почти вся северная Индия. Британцы сделали Шуджу марионеточным властителем Ауды и тянули из него деньги как для покрытия расходов на ту войну, из которой он сам вышел побежденным, так и на содержание британских войск, которые затем разместили в Ауде, чтобы “защищать” княжество. В Лакхнау перебрались британские и другие купцы, в числе которых был и француз Клод Мартен. Он слыл богатейшим человеком в городе и выстроил несколько особняков в европейском стиле (в одном из них позднее разместилась школа для девочек “Ла Мартиньер”). Это были бесшабашные времена Уоррена Гастингса и британских набобов, на которых обрушивал свой гнев Эдмунд Берк, – времена, когда обычные солдаты или торговые агенты компании вдруг становились дельцами, притесняли местных князьков, выдаивая из них богатства, и сами начинали вести роскошную жизнь в подражание моголам. Один англичанин с прямо-таки диккенсовским именем Феликс Роттон, родившийся в 1795 году, служил при навабе на нескольких военных должностях, разбогател, женился на нескольких местных женщинах и стал отцом двадцати двух детей. Для довершения картины типичной набобской карьеры Роттон не сделал лишь последнего шага: не вернулся на родину, не купил себе захудалого городишки и не сделался членом Парламента.
Последний могольский правитель Лакхнау, Ваджид Али-Шах, пришел к власти в 1848 году, а в 1856-м был отстранен от должности британцами, когда город присоединили к постоянно разраставшейся части Индии, подчинявшейся непосредственно британцам. Вскоре после насильственного изгнания Ваджида в Калькутте вспыхнул антибританский мятеж, вошедший в историю как восстание сипаев. Осада иностранной общины Лакхнау войсками повстанцев и ее освобождение солдатами регулярной британской армии стали хрестоматийным эпизодом той ужасной войны. Эти события произошли всего за десять с небольшим лет до приезда из Огайо Изабеллы Тоберн, вознамерившейся научить индийцев правильной жизни. Иными словами, славное и упадочное великолепие Лакхнау при последнем навабе было в ту пору еще совсем недавним прошлым.
Многим из того, что нам известно о Лакхнау в периоды до и после британской аннексии, мы обязаны местному журналисту и писателю Абдулу Халиму Шарару, поклоннику поэзии на урду, который в 1913 году начал создавать большой цикл очерков, описывая исчезавшие на глазах картины жизни. Описанный Шараром порядок был таким: британцы и их гарнизоны держали город под контролем, но в то же время побуждали его номинальных правителей вести прежний приятный и разгульный образ жизни, нисколько не мешая им предаваться гаремным удовольствиям. Шуджа уд-Даула, писал Шарар, “питал врожденное пристрастие к красавицам, любил пляски и песни. По этой причине в городе имелось такое множество базарных красоток и танцовщиц, что все улицы и переулки буквально кишели ими. Из-за милостей и наград, которыми осыпал их наваб, этим женщинам жилось так легко и богато, что у большинства куртизанок имелись собственные жилища с двумя или тремя прилегающими к ним роскошными шатрами”.
Это были последние дни индийской гаремной культуры. По словам Шарара, когда наваб путешествовал, шатры куртизанок “с большой пышностью водружали на телеги, запряженные волами… и приставляли к ним для охраны отряд из десяти или двенадцати солдат. А поскольку так было заведено у правителя, все богачи и вельможи из его подданных следовали его примеру и тоже брали с собой в путешествия куртизанок”.
Так же было заведено и у преемников Шуджи. Его сын Асаф уд-Даула, по словам Шарара, интересовался главным образом развлечениями, и британцы снабжали его деньгами, чтобы он мог ни в чем себе не отказывать. У Асафа была и страсть тратить деньги на “украшение и благоустройство города”, что должно было “удовлетворять его желание проводить жизнь в роскоши и пышности”. Последний властитель, Ваджид Али-Шах, начал свое правление с попыток вернуть себе некоторую независимую военную мощь, поэтому он часами разъезжал верхом на коне и муштровал солдат. Однако ключом к его подлинным интересам было, по словам Шарара, создание “маленькой армии из красивых девушек”, которых муштровали точно так же, как и мужчин.
Не прошло и года, как Ваджиду надоело военное дело. Все больше времени он проводил “среди красивых и распущенных женщин, и вскоре столпами государства и главнейшими людьми в стране сделались танцовщицы и певицы”. Ваджид слагал стихи о собственных любовных чувствах и амурных похождениях своей юности. По этому поводу Шарар заметил, что если “мало кто из вельмож и знати не давал в ранней юности полной воли своим чувственным желаниям”, то один лишь Ваджид Али-Шах “сделал всеобщим достоянием свои плотские прегрешения”. Он влюблялся в “носильщиц паланкинов, куртизанок, домашних служанок, женщин, входивших во дворец с какими-нибудь поручениями, – словом, в множество женщин, а поскольку он был престолонаследником, то все охотно принимали его любовные ухаживания”. Раз в год он устраивал театральные спектакли, где разыгрывались совершенно чуждые исламу сцены любовных приключений Кришны. Ваджид играл самого Кришну, а “нарядные и добродетельные придворные дамы исполняли роли доярок бопи – возлюбленных Кришны”.
В этом портрете Ваджида и его ближайших предков отразился естественный процесс разложения, определившего судьбу восточных деспотов. Пускай энергия и могущество, присущие таким личностям, как Акбар и Аурангзеб, давно испарились, зато упадочная гаремная культура по-прежнему процветала. Жизнь двора и знати в Лакхнау в те годы отличалась не только вольностью сексуальных нравов. Ценились утонченные удовольствия самого разного рода. Шарар рассказывал, что бешеным спросом пользовались сказители: едва ли можно было найти в Лакхнау хоть одного богача, у которого не было в свите собственного сказителя. Наблюдался расцвет любовной поэзии на урду, причем в моде были такие стихи, что “трогали души людей особенно чувственных и Владыки”. В Лакхнау зародился особый поэтический жанр, называемый Шараром васохт: шестистишие, в котором поэт воспевает любимую, описывает ее красоту и сетует на свою безответную страсть. А затем он выдумывает новую, несуществующую любовь, и рассказывает своей настоящей любимой, что влюбился в другую, и принимается восхвалять ее красоту и очарование, пока ему не удается сломить гордыню и сопротивление упрямицы, после чего девушка уступает влюбленному. Как и всегда в могольской культуре, повсеместным развлечением оставались танцы. Среди других популярных способов развлечения были звериные и птичьи бои, в которых участвовали самые разные животные, от петухов до слонов.
А в центре этой сладкой жизни находились куртизанки, которые зачастую были весьма искусными танцовщицами и умели наизусть читать длинные стихотворения и поэмы. Выясняется, что “танцовщицы и певицы” (так именовались куртизанки в британском административном перечне категорий населения) принадлежали к богатейшему слою общества. После того как в 1858 году британцы прорвали осаду Лакхнау, многих куртизанок обвинили в пособничестве мятежникам и конфисковали у них имущество. А в это имущество, согласно муниципальным записям, входили дома, плодовые сады, фабрики и розничные лавки, торговавшие продуктами и предметами роскоши. Британцы также составили опись предметов, захваченных у трехсот наложниц, живших в гареме Ваджида Али-Шаха. Там значились “золотые и серебряные украшения, усеянные драгоценными камнями, вышитые шали из кашемировой шерсти и парчи, расшитые драгоценностями головные уборы и туфли, мухобойки с золотыми, серебряными, нефритовыми и янтарными ручками, серебряные столовые приборы, нефритовые кубки, тарелки, плевательницы, кальяны, серебряные приспособления для сервировки и хранения еды и напитков, а также ценные предметы домашней обстановки”, общая стоимость которых была оценена приблизительно в два миллиона долларов (в ценах 1857 года).
Шарар неодобрительно рассказывал о привилегированном положении куртизанок: такое ощущение, что наш любитель поэзии урду сам впитал викторианскую мораль. “Общение с куртизанками началось во время правления Шуджи уд-Даула, – писал он. – Среди знати стало модным общаться с какой-нибудь красоткой с базара или просто ради наслаждения, или ради того, чтобы выделиться в обществе… Эти глупости зашли так далеко, что даже появилось мнение: если кто-то не общается с куртизанками, то его нельзя считать культурным человеком. Это привело к падению нравов в Лакхнау. В настоящее время здесь еще можно найти куртизанок, общение с которыми не считается зазорным, в их дома можно входить открыто и без стеснения”.
Но то, что оставалось от прежнего образа жизни, было всего лишь бледной тенью былого. Правда, для некоторых богачей в Лакхнау, пожалуй, даже в начале ХХ века досужее общение с женщинами было главным развлечением в жизни, но вряд ли таких людей было много, и не только по причине нравственного давления со стороны миссионеров. Британцы, некогда предпочитавшие не вмешиваться в общественную жизнь “туземцев”, не только конфисковали у куртизанок их богатства, но и – что, возможно, гораздо хуже – заставили их превратиться в обыкновенных проституток. Учитывая, что в Лакхнау расквартировали тысячи британских солдат (особенно после подавления восстания сипаев), колониальная администрация приняла те же меры, что принимались по всей Индии: учредила закрытые лечебницы для проституток, у которых выявлялись венерические болезни, и лал-базары для солдат. Лишившись княжеского покровительства после того, как британцы присоединили Лакхнау к своим территориям и прогнали наваба, многие бывшие куртизанки были вынуждены обслуживать британские войска, размещенные в их городе. Излишне говорить, что новых клиентов нисколько не интересовали ни изыски индийского танца ноч, ни любовные песни на языке урду. “Навязывание правил, призванных бороться с заразными болезнями, а также суровые штрафы и наказания для куртизанок за их причастность к восстанию ознаменовали начало постепенного вырождения прежде высоко ценившегося культурного сословия в рядовых проституток, – так писал британский историк, специалист по той эпохе. – Женщины, которые некогда общались с князьями и вельможами, наслаждались сказочно роскошной жизнью, располагали и людьми, и средствами для достижения своих социальных и политических целей, выступали хранительницами культуры и законодательницами мод, с приходом британцев оказались в крайне сомнительном и уязвимом положении”.
В частности, этим женщинам, сколь бы изысканными и культурными они ни были, отныне приходилось подвергаться принудительному физическому осмотру, чтобы их признали годными к сексуальному обслуживанию британских солдат. Тем временем Лакхнау постепенно скатывался к разрухе и нищете, превращаясь в очередной захудалый североиндийский город.
Неясно, понимала ли Изабелла Тоберн, что та старая культура Лакхнау, которую она наблюдала, являлась остатком уже исчезающего мира, и осознавала ли, что одним из ироничных последствий колониализма в викторианскую эпоху стало вытеснение прежней уточненной сексуальной культуры новой культурой, грубой и эксплуататорской. Разумеется, то, что она видела и описывала, глубоко тревожило ее и заставляло браться за начинания, которые стали делом всей ее жизни. Принимаясь за дело, она не заблуждалась и не умаляла могущества гибридной мусульманско-индуистской культуры, породившей ту совокупность явлений, в которой сама она могла видеть лишь плачевное духовное состояние. Она находила Лакхнау по-своему великолепным, “достойным восточных романов”, как она писала в статье для официального журнала Женского иностранного миссионерского общества – издания, выходившего на протяжении почти всей второй половины XIX века под названием, которое сегодня звучало бы пародией на самое себя, – “Друг язычницы”. Но, поспешно добавляла Тоберн, Лакхнау погряз в пороке, и более того, это настоящее “темное обиталище множества омраченных грехом душ”. Она слышала зов нищего – “Пожалейте меня, во имя Аллаха”, – и ужасалась приманкам ложной религии. Она видела похоронную процессию по пути к берегу реки, где устраивались погребальные костры для индуистского обряда сожжения покойников, и все внушало ей отвращение – от песнопений “Рам, Рам” до “тошнотворного запаха цветов”. “Нигде еще язычество не проявляется так мерзко, как рядом с смертью”, – писала она. Или вот на улицу из какой-то невидимой “комнаты наверху доносится странное, монотонное пение хора танцовщиц”, и для Изабеллы Тоберн эти звуки не просто свидетельствуют о том, что где-то люди развлекаются музыкой и зрелищем танцев, но служат знаком “греха и страдания, что омрачают этот прекрасный восточный город”.
Как это представлялось Тоберн, женщины в Индии фактически жили в домашнем плену, где ими помыкали мужья-деспоты. Но, слушая голос ложного сознания (как мог бы назвать это Карл Маркс), они сами не сознавали, что живут в заточении. Тоберн, женщина далеко не глупая, понимала, что существуют “соблазны” (так она выражалась) общественного положения, “против которых мало кто из женщин в силах устоять”, и видела, что многие индианки – даже те, кто проводит жизнь в “роскошной праздности”, – находились именно в таком зависимом положении.
“Этот уклад во всех смыслах плох, но он уходит корнями к древнейшим традициям восточного мира, – писал восторженный брат Изабеллы, описывая знакомство с обществом Лакхнау, – и его нельзя выкорчевать и вытравить за день, за год или даже за поколение. Но можно пролить свет на самые дальние уголки этой земли, и, когда будет угодно самому Господу, этот противоестественный уклад сам исчезнет, и тогда на смену восточному гарему придет христианская семья”.
Дело, конечно же, в том, что Британия и Запад породили два совершенно противоположных образа жизни в Индии. Одни люди, вроде Ричарда Бёртона, желали пользоваться всеми эротическими преимуществами Индии и брать с нее пример, другие, вроде Изабеллы Тоберн, – искоренить местные нравы, очистить сознание индийцев, доведя его до состояния “чистой доски”. Там, где Бёртон видел прекрасную возможность ощутить полноту бытия и приобщиться к богатству чужого опыта, Тоберн и ее соратники по миссионерскому подвижничеству видели грех и стремились истребить его. Излишне говорить, что Индия неизбежно изменилась бы, даже если бы туда не хлынули миссионеры. В XX веке большинство восточных стран (Япония, Индия, Китай, а также государства Юго-Восточной Азии) официально ввели моногамию и запретили держать наложниц. И даже там, где этого не произошло (например, в некоторых частях мусульманского мира), гаремы остались лишь у самых богатых.
Но если Запад в лице тысячи своих представителей вроде Изабеллы Тоберн предлагал новые, иноземные формы частной жизни, то Восток принимал их. Бёртон успел экспортировать индийские обычаи на Запад еще до того, как они вымерли там, где зародились. Тоберн импортировала западные обычаи в Индию в ту самую пору, когда у нее на родине строгость в отношении секса уже ослабляла хватку. Оба эти направления имели значение для соприкосновения Запада с иной сексуальной культурой Востока, и пусть Бёртон ценил ее, а Тоберн стремилась вытравить, оба обязаны были своим успехом связям с имперской властью. В каком-то смысле произошедшая в итоге и, пожалуй, неизбежная победа викторианских нравов в Индии ознаменовала возврат к сексуальной и нравственной культуре христианства. Десятилетиями Индия одерживала верх при столкновении восточной и западной сексуальных культур: надменные и уверенные в собственном расовом превосходстве европейские торговцы и солдаты быстро преображались в маленьких султанов. Но к концу XIX века – в то самое время, когда Бёртон произвел сенсацию в Британии, подарив сексуально угнетенным соотечественникам перевод “Камасутры”, – на Лакхнау и на всю остальную Индию опускалась, по выражению одного европейского писателя, “долгая ночь викторианской морали”.
Вопрос о том, в самом ли деле эта ночь оказалась долгой, сложен. Разумеется, внедрение западной морали произошло, когда Лакхнау лишился и торговой, и культурной жизнеспособности, и сегодня этот город, несомненно, являет собой куда менее привлекательное зрелище, чем двести лет назад. Но нельзя забывать и о проблеме равноправия женщин и их освобождения от такого жизненного уклада, когда наивысшим достижением для женщины считалось либо существование в “роскошной праздности”, либо призвание куртизанки. Оба варианта жизненного преуспевания отражали представление о том, что главное предназначение женщины – услаждать и обслуживать мужчин. Такие взгляды едва ли оказались бы живучими в XX веке, и Тоберн, без сомнения, заслуживает похвалы за работу, которую она проделала, чтобы эти старые взгляды были поскорее преданы забвению, хотя бы частичному. В ее работе прослеживались и другие прогрессивные черты. Основанное ею учреждение стало одним из тех немногих заведений в Индии XIX века, где европейцы и индийцы общались на равных. “В “Лал-Багхе” ни о каких расовых предрассудках как будто никогда и не слыхивали”, – вспоминала одна из учениц Тоберн. Среди выпускниц ее школы были и первая в Индии женщина-врач мусульманской веры, и первая женщина-дантист. Тоберн хотела, чтобы девушки становились туземными миссионерками и продолжали долгосрочную программу христианизации Индии, и с этой целью она обучала своих учениц английскому языку, географии и физиологии и отправляла их в разные деревни в окрестностях Лакхнау в качестве помощниц миссионеркам и проповедницам Библии из Европы. Но никогда не угадаешь, какие плоды принесет грамотность.
Как оказалось, колледж Изабеллы Тоберн невольно внес большой вклад в женскую литературу Индии, причем порой это творчество выходило далеко за рамки и восточной, и западной традиций. Среди выпускниц колледжа была, например, Исмат Чугхтай, чей рассказ “Лихаф” (“Покрывало”), напечатанный в 1942 году, сегодняшние феминистки провозгласили иллюстрацией лесбиянства как формы сопротивления. “Лихаф” рассказывает о юной невесте, которую “привозят… в дом” ее мужа-аристократа “вместе с остальной его мебелью”. Муж, которого на самом деле интересуют красивые юноши, не уделяет ей никакого внимания, и она находит удовлетворение и утешение в эротических отношениях со служанкой.
Можно предположить, что Изабелла Тоберн, скорее всего, до конца жизни остававшаяся девственницей, не одобрила бы такой темы (не одобрили ее и британские власти, которые после публикации “Лихафа” пытались – безуспешно – преследовать Чугхтай в судебном порядке за непристойность), однако в XX веке в колледже, носившем имя Тоберн, девушкам разрешалось читать не только Библию, но и Фрейда, Дарвина, а также великие английские романы XIX века. Сама Тоберн – опять-таки на деньги, выпрошенные у американских единомышленников, – основала в 1880-е, по-видимому, первый в Индии журнал, создававшийся для женщин и, что еще важнее, женщинами. Он назывался “Друг женщины”, выходил раз в два месяца на хинди и на урду и бесплатно рассылался всем желающим. Тоберн хотела знакомить читательниц с так называемой христианской литературой – с Библией, семейными историями и тому подобным – и сама вела постоянную рубрику. На фоне Индии конца XIX века журнал, писавшийся женщинами, имевшими отношение к школе для девочек, выглядел поистине революционным явлением. “Женские колледжи несли нечто радикально новое, в то время как западное образование оставалось доступным лишь мужчинам, – пишет один современный исследователь. – Только христианские школы давали женщинам такое образование, чтобы они могли найти себе работу и место в обществе, а не просто быть женами и матерями”.
Отчасти привлекательность колледжа заключалась в том, что он пользовался престижем учебного заведения западного образца. У женщин, которые там учились, появлялось больше шансов выйти замуж за индийцев с западным образованием, а западное образование имело или получало все большее количество индийцев из высших сословий. “На образование начали смотреть как на пропуск, облегчавший путь к замужеству”, – сказал британский директор одной христианской школы в Лахоре. Но в Лакхнау ХХ века колледж Изабеллы Тоберн являлся не просто магнитом для будущих жен. Он органично вписался в ту эпоху брожения и бурных перемен, когда подвергалось сомнению множество традиций – в том числе и традиция британского правления. В Лакхнау вышла антология “Ангаре” (“Угли”), нападавшая на традиционные мусульманские обычаи. Она так взбесила мусульманские влиятельные круги, что местным имамам пришлось выпустить фетву, призывавшую забить камнями четырех авторов этого сборника.
Другой выпускницей колледжа Изабеллы Тоберн была Аттиа Хосайн, чей отец, выпускник Кембриджского университета, дружил с отцом Неру. Хосайн (она умерла в 1998 году) прославилась прежде всего романом “Лучи солнца на разбитой колонне” – очередной важной вехой в литературе Индии, ознаменовавшей разрыв со старыми порядками. Это история девушки, которая отвергает главную идею, внушенную ей традиционной родней и гласящую, что женщина обязана смиряться с несчастьем как со своей неизбежной судьбой.
В конце 1990-х британский журналист и историк Уильям Далримпл посетил Лакхнау специально для того, чтобы описать разрушение его старой индуистско-мусульманской культуры. Смертельный удар былому величию города был нанесен одновременно с разделом бывшей Индийской империи на Индию и Пакистан, что вынудило многих мусульман уехать. “То, что еще оставалось от старого Лакхнау с его следами придворной жизни, красивой и утонченной, быстро вверглось в упадок, – писал Далримпл. – Дороги перестали обрызгивать водой на рассвете, здания – ежегодно белить, сады заросли и одичали, а на тротуарах, которые больше никто не мел, скапливались кучи грязи и мусора”.
Далримпл беседовал с людьми, которые еще могли припомнить немногие признаки былого величия города, и они рассказывали, как власть над Лакхнау, некогда находившаяся в руках пусть и упадочных, но все-таки культурных князей, “перешла к невеждам”. Повсеместно расцвела коррупция. Сегодня потомки навабов тянут рикши или работают обыкновенными проститутками, за пятьсот рупий обслуживая клиентов в отеле “Кларкс”. Хочется уточнить: в этом нет вины Изабеллы Тоберн, колледж ее имени до сих пор дает образование женщинам Лакхнау, и городу гораздо лучше иметь такое заведение, чем не иметь его. Упадок Лакхнау невозможно отделить от общей нищеты Индии, а она является сложным результатом неэффективного руководства коррумпированной политической верхушкой, длительного пребывания страны в состоянии социалистической автаркии, раздробленного и скованного жесткими классовыми рамками социального строя, а также неспособности государства наладить единую систему образования и здравоохранения (в отличие, например, от Китая).
И все-таки Изабелла Тоберн, непоколебимо уверенная в том, что ее идеология должна стать идеологией Индии, была своего рода межевым столбом на пути к исчезновению удивительной гибридной культуры – культуры, равной которой мы уже никогда не увидим.
Глава 10
Вынужденная вежливость Японии
Мартин Арнольд получил свой первый и незабываемый урок исторической связи между западной властью и восточным сексом вскоре после того, как прибыл в Японию во время оккупации этой страны силами США. Это случилось в 1947 году, спустя примерно полтора года после капитуляции Японии. Арнольд, с которым я беседовал в Нью-Йорке в 2007 году, был определен на работу при токийской тюрьме и психиатрической больнице, которая перешла в ведение армии. Однажды, делая обход, он случайно встретил другого солдата – своего бывшего однокашника.
“И он мне говорит: “Поехали вечером в одно место!” – вспоминал Арнольд. – И вот мы садимся в поезд и едем в пригород. Потом мы слезаем с поезда и идем в какой-то домишко, а там сидят папа-сан, мама-сан и две дочки-сан. Папа-сан и мама-сан куда-то уходят, и тогда мы принимаемся за дочек-сан. И мой напарник, пока был занят этим делом, еще читал чертову газету и в придачу курил чертову сигару!”
Наверное, потом они расплатились с девушками, хотя эту подробность Арнольд уже не может вспомнить. Зато он помнит, что в те времена секс в Японии повсюду можно было получить в обмен на такие вещи, как мыло и шоколадки – товары, которые оставались практически недоступными для рядовых японцев, но продавались для американских солдат в специальных “армейских магазинах”.
“А потом мы опять садимся в поезд, – продолжал Арнольд. – Мы идем в машинное отделение, а там на двери табличка: “Личному составу союзников вход воспрещен”. И вот мой напарник открывает дверь, хватает машиниста за плечи и сажает его в угол, а сам берется за дроссель, и мы едем обратно в Токио. Мы проехали все остановки. Никто не мог ни выйти из поезда, ни войти. И вот наша станция. Мой однокашник тормозит, открывает дверь и кричит: “Беги!” И они бросились бежать в свою больницу, а им вслед свистели военные полицейские.
К тому времени, когда США сделались неоколониальной державой в Азии (наверное, именно такое определение подходит для их статуса), величию Британской и Французской империй уже настал конец, а потому затухла и широкомасштабная эротическая деятельность британцев и французов в Индии, Северной Африке и Индокитае. Американцы не просто восполнили образовавшийся пробел. Они превратили эротическое взаимодействие Востока с Западом из носившей частный характер и относительно незаметной деятельности в нечто сугубо американское – в настоящее коммерческое, демократическое и массовое организованное предприятие. Куда бы ни внедрялись американцы в Азии – будь то Окинава, военно-воздушная база в Кларк-Филде на Филиппинах, Удонтхани в Таиланде (там разместилась база В-52, откуда велись бомбежки Северного Вьетнама во время вьетнамской войны) или бухта Кам-Ранх во Вьетнаме, – всюду события неизбежно разворачивались по одному и тому же сценарию. Некоторые улицы превращались в особые кварталы развлечений, там и сям как грибы вырастали заведения, чьи названия призывно рекламировали неоновые вывески: бар “Гонолулу”, “У Сьюзи Вонг” или клуб “Кошечка”. Тысячи смуглых девушек в откровенных нарядах и с увеличенной грудью лопотали на повсеместном пиджине (“Эй, скупой Чарли, ты покупать мне выпивка?”), плодились дети, не знавшие отцов, и распространялись венерические болезни.
В 1945 году в Японии, заплатив цену бруска мыла и шоколадки, можно было переспать с девушками из приличной, но обнищавшей и мирящейся с унижениями японской семьи. При желании можно было в придачу читать газету и курить сигару во время совокупления, чтобы продемонстрировать свою безраздельную власть над побежденной страной, свое право небрежно помыкать ее жителями, используя их для собственного удовольствия. А потом, чтобы продемонстрировать то же самое уже большему числу японцев, можно было превратить поезд до Токио в свой личный лимузин. Как отмечал историк Джон Дауэр, одним из следствий этого явления было коренное изменение образа Японии в глазах американцев – ее преображение из “угрожающей, мужественной силы… в покорное женское тело, которому белые победители вправе навязывать свою волю”. В индивидуальном порядке это почти не требовало издержек. В первые годы оккупации Японии короткий визит к проститутке обходился в пятнадцать иен или в один доллар, тогда как на японском послевоенном черном рынке пачка сигарет стоила тридцать иен.
Сама оккупация закончилась в 1952 году, но Япония продолжала поставлять доступный и дешевый секс американским солдатам с военных баз, размещенных в этой стране, вплоть до 1970-х годов. Начавшийся затем экономический бум привел к тому, что продажный секс стал уже не по карману рядовым джи-ай и туристам. Но до той поры Япония оставалась зоной сексуальной вседозволенности, особенно на острове Окинава (он был возвращен японскому правительству лишь в 1972 году), где находились самые многочисленные военные подразделения США.
Филип Капуто в своих душераздирающих мемуарах о Вьетнаме “Слух о войне” рассказывал об одном сержанте, который опоздал к отправке колонны, когда солдат первых боевых отрядов, посылавшихся во Вьетнам, должны были увезти в Окинавский аэропорт (до начала операции солдат разместили на Окинаве). Звали этого сержанта Колби, и он объявился на месте сбора “в спортивной рубашке и с глупой улыбкой на лице” в тот самый момент, когда его товарищи уже уезжали. “Просто задержался у малышки путанг, лейтенант”, – сказал Колби, объясняя Капуто свою отлучку среди бела дня. (Словцо произошло, видимо, от французского putain – “шлюха”.)
Если секс в послевоенной Азии отличался от более раннего западного опыта масштабом (гораздо большим) и стилем (более вульгарным), то все равно новые победители шли уже проторенными путями. Как и британцы в Индии, американцы в послевоенной Японии, Корее и Вьетнаме пользовались своей властью и деньгами, чтобы извлечь выгоду из бытовавшей в тех краях сексуальной культуры. На Востоке деньги и власть всегда вели к сексуальным преимуществам, а деньги и власть в изобилии имелись у посланных туда джи-ай, как и у журналистов, подрядчиков, дипломатов, шпионов, летчиков и прочих членов американского личного состава, особенно с начала и середины 1960-х, когда американцы перенесли свою деятельность в Индокитай.
В этом смысле показательно различие между двумя разгромленными во Второй мировой войне державами. У Германии с Японией было много общего. Обе страны встали на путь фашизма и милитаризма, вели себя агрессивно, жестоко обращались с побежденными, обе были повинны в самых чудовищных разрушениях и злодеяниях в истории человечества. А еще обе эти страны, потерпев поражение в войне, приняли оккупацию союзными силами без каких-либо протестов и сопротивления. Обе участвовали во вдохновленном американцами строительстве настоящих и прочных демократических устоев государства (хотя в случае Германии такая перестройка происходила поначалу только в западной половине разделенной надвое страны). А еще обе страны пережили страшные притеснения и надругательства в силу истощения, вызванного войной, и из-за вторжения противника, оккупации и возмездия со стороны бывших врагов. В частности, немцы стали жертвами советских солдат, которые, преследуя отступавшую немецкую армию от польской границы до самого Берлина, нещадно насиловали немецких женщин и девушек. И конечно же, в годы оккупации обе страны не имели собственной суверенной власти, государственными делами распоряжались представители стран-оккупантов, четырех в Германии и одной в Японии.
Но две эти страны радикально различались во взглядах на секс. В Германии, когда военный конфликт завершился, а власть перешла к оккупационному правительству, представлявшему четыре победившие державы, не предпринималось никаких официальных попыток обеспечить оккупантов сексуальными услугами. Что бы ни происходило между победителями и женщинами побежденной страны (а происходило многое), совершалось это в частном порядке, будь то добровольно или по принуждению. В Японии же, напротив, правительство приняло типично азиатское решение, проистекавшее из традиций гаремной культуры и имевшее целью упорядочить сексуальные последствия, какие влекло за собой размещение четверти миллиона американских солдат на японской земле. Японцы пошли на это отчасти потому, что понимали: если бы победителями из войны вышли они, а США оказались бы побеждены, то японские солдаты точно так же насиловали бы американок, как советские солдаты насиловали немок. Так уже поступали японские солдаты в ходе операции, совершенно справедливо названной Нанкинской резней (Нанкин являлся столицей националистического Китая, которую японцы захватили и разграбили в ходе войны).
Действительно, как хорошо известно, японцы заставляли тысячи женщин в завоеванных ими странами работать в борделях, организованных специально для обслуживания сексуальных потребностей их солдат. В самих этих янфу, или “женщинах для досуга” – кореянках, китаянках, филиппинках и прочих, – в искаженном и криминализованном виде отразилась азиатская гаремная культура. Это явление возникло благодаря бытовавшему в обществе убеждению, что всегда должно существовать особое сословие женщин, чье предназначение – удовлетворять сексуальные запросы мужчин, причем отчасти для того, чтобы можно было сохранить нетронутой высоко ценившуюся чистоту “порядочных” женщин из того же самого общества. Таким образом, вынужденное распутство одних женщин помогало защищать целомудрие других.
В ожидании прибытия американцев японцы опасались, что оккупанты поступят с их женщинами точно так же, как их собственные солдаты поступали с женщинами на тех территориях, которые они захватывали в ходе войны. Дауэр в своей книге, посвященной послевоенной Японии, написал об этом: “Сексуальные последствия предстоящего прибытия и размещения сотен тысяч военнослужащих-союзников казались ужасающими, особенно для тех, кто сознавал, каким хищным разбоем занимались сами японские солдаты на оккупированных ими территориях”. И потому правительство разослало инструкции в полицейские отделения по всей стране, чтобы те подготовили “удобства для досуга” оккупантов, и эти распоряжения были исправно выполнены.
У японцев уже имелся хорошо известный исторический прецедент и своего рода героический пример для женщин, которых направили на работу в “центры отдыха и развлечения”, как их стали тут называть. Через несколько лет после того, как в 1854 году коммодор Перри приплыл со своими знаменитыми “черными кораблями” в Токийскую бухту и вынудил Японию распахнуть двери для торговли с Западом и впустить на свою землю для проживания большое количество западных людей, в Токио прибыл Таунсенд Харрис, первый генеральный консул США. Согласно японским письменным документам, Харрис потребовал, чтобы местные власти обеспечили его компаньонкой, которая исполняла бы роль и служанки, и любовницы, а иначе, грозил он, деловые переговоры застопорятся. В дневниках, которые позднее вышли в двух томах, Харрис ни единым словом не обмолвился об этой просьбе. Более того, являя ранний пример того лицемерия, которое зачастую порождало христианское требование жить в целомудрии и безбрачии, Харрис публично порицал “сластолюбие местных жителей”, как он выражался, и даже, подчеркивая собственное моральное превосходство, презрительно упоминал о японском вице-губернаторе, который, по его словам, предложил привести к нему любую женщину, какую тот пожелает.
Однако внутренняя японская документация, напротив, указывает на то, что Харрис потребовал женщину, а японские власти, хотя и неохотно, направили к нему некую Кичи (более известную под именем О-Кичи, с прибавлением японского уважительного префикса O-), дочь обедневшей вдовы. Нельзя назвать эти отношения счастливыми. Харрис продержал О-Кичи у себя в штате (если уместно это так назвать) лишь два недолгих срока, а потом отпустил и заменил двумя другими любовницами. Очевидно, что Харрис не стал бы требовать женщину у официального дипломатического партнера, если бы его отправили вести переговоры, скажем, в Испанию, Францию или Бразилию. Но он явно был наслышан о местной сексуальной культуре и знал о похождениях иностранцев в Японии, раз сразу высказал такое требование, вознамерившись воспользоваться теми же сексуальными привилегиями, какие любой японский феодальный правитель или богатый купец счел бы своим неотъемлемым правом.
Впоследствии сама О-Кичи обрела среди соотечественников и соотечественниц ореол трагической героини. Хотя такую аналогию и можно счесть натяжкой, но женщин, которых частные предприниматели собирали в заведения для “досуга”, выполняя распоряжение японского правительства в послевоенный период, стали называть showa no tojin Okichi – “О-Кичи наших дней”.
“Мы не пятнаем нашу чистоту и не продаем наши души”, – заявляли участницы первого контингента японских “женщин для досуга”, произнося обязательную клятву при вступлении в это странное сословие. Клятва четко определяла: половые контакты с бывшим врагом – не проституция, а исполнение патриотического долга. “Мы отдаем дань вынужденной вежливости, способствуем выполнению части наших обязательств и обеспечиваем безопасность нашему обществу”.
Нельзя сказать, что такая формулировка могла хоть в какой-то степени скрыть от молодой японки весь ужас той отвратительной задачи, которую ставило перед ней правительство, ведь ей вменялось в долг совокупляться с множеством иностранных солдат, до шестидесяти мужчин в день! Дауэр рассказывал, что, когда в токийском районе Омори открывали первые “центры отдыха и развлечения”, местный начальник полиции плакал при виде этого зрелища. Одна девятнадцатилетняя девушка, работавшая машинисткой, до того как ее призвали к выполнению этого нового патриотического долга, немедленно покончила с собой. Спустя несколько месяцев, в январе 1946 года, действуя не из соображений морали, а ввиду молниеносного распространения венерических заболеваний среди солдат и женщин, оккупационные власти официально запретили проституцию. Но излишне говорить, что проституция после этого вовсе не исчезла. Просто в Японии появилась новая общественная группа – панпан, как стали называть “ночных бабочек”.
В самом их виде было что-то привлекательное и в то же время постыдное. “Панпан, гуляющая под руку со своим джи-ай или весело разъезжающая на его джипе, – такое зрелище наносило болезненную рану национальному самолюбию в целом и мужскому самолюбию японцев в частности”, – замечал Дауэр, предвосхищая картину, которая сложится позднее и в других странах. Действительно, пятьдесят с лишним лет спустя знаменитый вьетнамский музыкант Конг Сон Тринх в беседе с репортером “Нью-Йорк таймс” признался, что самым неприятным и навязчивым образом времен вьетнамской войны, напоминавшим ему о нищете и нравственном падении его родной страны, была такая картина: “богатый американец, идущий по улице под руку с красавицей вьетнамкой”.
Однако отношения, возникавшие в результате контактов между американцами и местными женщинами, были довольно сложными, и разумеется, многие из них не имели ничего общего с проституцией. Конг Сон Тринх допускал, что часто вспыхивали самые искренние чувства, в том числе и настоящая взаимная любовь.
Однако общую картину портила, конечно же, материальная составляющая, неспособность вычленить и отделить – особенно для женщин, вступавших в такие связи, – притяжение к столь заманчивому и столь необходимому достатку от подлинности собственных чувств. Потому что, как-никак, к представителям самой могущественной страны на земле невольно приставал ореол привлекательности. К тому же эти представители имели привилегии – доступ к армейским магазинам, а именно там и только там можно было купить спиртное и сигареты для семьи, духи и мотоцикл для себя. Еще трудно было устоять перед соблазном, пускай и вульгарным, похвастаться перед окружающими красивыми платьями, губной помадой “Ревлон” и карманными деньгами, которые можно было тратить на все, что захочется.
Но мы сейчас говорим о контрасте между оккупированной Японией и оккупированной Германией. В Японии были организованы публичные дома для оккупантов, в Германии нет. Дело вовсе не в том, что в Германии в ту пору не существовало проституции (или что ее не существует сейчас). В первые послевоенные месяцы и годы в Германии та же экономическая разруха и то же отчаяние, какие царили в Японии, толкали многих женщин на корыстные сексуальные связи с солдатами из оккупационных войск. Проститутки в Германии встречались на каждом углу. Более того, и сегодня проституция в Германии является законным и регламентируемым занятием, да и в тех европейских странах, где она не считается законной, это все-таки распространенное и обычное ремесло, особенно процветающее на демаркационных линиях между богатыми и бедными странами. Сегодня можно проехать через границу, отделяющую Германию от Чешской республики или от Польши, или даже из Румынии в Болгарию – и вот они, уже поджидают: женщины в коротких юбках, завлекающие автомобилистов гораздо более низкими ценами на секс, чем те цены, которые назовут им по другую сторону границы. И можно не сомневаться, что эти проститутки, которых толкнули на обочину и экономические сдвиги, и новые возможности, наметившиеся одновременно с крахом коммунистических режимов в Восточной Европе, платят из своих заработков определенную дань местной полиции. Иначе как объяснить, что их бойкий, никак не замаскированный и противозаконный промысел происходит в такой близости от пограничных КПП?
Иными словами, проституция на этих территориях имеет некую официальную санкцию, пускай даже в условиях коррупции. Помимо нее существует и гораздо более отвратительное явление – преступная торговля женщинами и детьми, которая тоже пережила взлет, с тех пор как в Восточной Европе лишились власти коммунисты, ослаб прежде строгий общественный надзор, а образовавшийся вакуум заполнили бандиты и с целью наживы создали подпольный рынок услуг для извращенцев и подонков.
Но то, что происходило в послевоенной Азии, начиная с Японии, в корне отличалось от этой картины – хотя, конечно, наряду с “нормальной” проституцией имелось (и сейчас имеется) много отвратительного и чудовищного, в том числе торговля детьми и сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, особенно распространенные в странах вроде Филиппин или Камбоджи. И здесь речь уже не идет о совпадении западных желаний с восточной сексуальной культурой, так как в сексе с детьми нет ничего специфически азиатского. Такое наблюдается в любой стране, где силы законности, порядка и гражданского общества настолько ослабли или подверглись коррупции, что уже не способны помешать творящемуся безобразию.
И все-таки Германия, несмотря на отчаяние, разруху и нищету, охватившие ее после военного поражения, не вербовала своих женщин для оказания сексуальных услуг иностранным солдатам-оккупантам. Такой шаг с ее стороны кажется попросту невообразимым с точки зрения местной культуры. Японская реакция на оккупацию силами США восходила к многовековой сексуальной культуре, всегда отличавшейся от западной. И дело вовсе не в том, что японцы находили разврат позволительным. Если уж на то пошло, японцы были и остаются куда более щепетильными и консервативными в отношении к сексу, чем немцы или другие западные народы. Отцы и матери ожидали от дочерей, что те будут хранить чистоту и невинность до замужества, и, зная об этих ожиданиях, можно понять, какое унижение переживала та родительская пара с двумя “дочками-сан” из токийского пригорода. Вместе с тем Япония демонстрировала парадокс, присущий большинству стран с гаремной культурой: питаясь мужскими желаниями и мужской властью, они проявляют сексуальную чопорность на одном уровне и дают волю необузданному распутству на другом. Гаремная культура отражает более реалистичный взгляд на мужское сексуальное желание, чем западная с ее идеалами целомудрия и моногамии, к тому же она менее сентиментальна. Япония всегда была страной с кварталами развлечений, а после разгрома во Второй мировой войне ее руководство сочло, что просто нет иного выхода, кроме как расширить их, сделав доступными для оккупантов.
В действительности первый известный сексуальный контакт между европейцем и японкой произошел тогда, когда состоялась первая известная высадка европейцев на японских берегах. В 1543 году двое португальцев на китайской джонке, сбившись с курса, пристали к острову Танегасима к югу от острова Кюсю. Впечатленный видом аркебуз, лежавших в лодке португальцев, властитель острова Танегасима Токитака велел своему главному оружейнику, человеку по имени Киёсада, выковать их точные копии. Поняв, что ему с этой задачей не справиться, Киёсада предложил одному из португальцев свою дочь в обмен на помощь в изготовлении аркебузы. Киёсада рассчитывал, что его дочь лишь некоторое время пробудет с иноземцем, но вышло так, что они влюбились друг в друга и даже поженились, и в конце концов девушка уплыла вместе с иностранцем. Впрочем, потом супруги вернулись в Танегасиму и привезли с собой португальского оружейника, так что Киёсада приобрел те ремесленные навыки, на которые изначально и обменял дочь.
За тем первым появлением в Японии чужеземцев последовала великая эпоха португальских морских открытий, когда личности вроде Васко да Гамы исследовали дальние берега Африки и Малабарское побережье Индии. Португальцы положили начало торговому освоению европейцами Восточной Азии, основав торговый пост в Макао в Южно-Китайском море, а затем отплыв в Японию. И в Китае, и в Японии торговцы и мореплаватели той первой волны открывали для себя возможности, казавшиеся им поразительными и захватывающими, – учитывая, что сами они были родом из строгой католической страны. Вот что писал итальянский торговец Франческо Карлетти, после того как посетил Японию в 1590-е годы: “Всегда, как только эти португальцы причаливают и высаживаются на берег, местные сводники зовут их в дома, где те размещаются на постой, и расспрашивают, чего бы тем хотелось купить или чем разжиться. Может быть, они хотят взять девушку на то время, что будут жить здесь? И долго ли продержат ее у себя, много месяцев, или один день, или всего час? И вот для начала они уговариваются с этим посредником или идут сами к родственникам девушки и вносят плату… А потом часто выходит так, что им [этим португальцам] достается хорошенькая девочка лет четырнадцати-пятнадцати за каких-нибудь три-четыре скудо или чуть дешевле или дороже, это зависит от того, сколько времени они пожелают провести с нею. Их не связывают никакими обязательствами, если не считать уговора, что они должны прислать ее домой после условленного срока”.
Иностранцы в Японии находились в необычном и сомнительном положении: местные власти никогда до конца не были уверены, что вообще хотят иметь с ними какие-либо контакты, и уж тем более сексуальные. В течение первых десятилетий XVII века японцы мало-помалу осуществляли политику изоляции: запретили торговлю со странами, ведущими христианскую миссионерскую деятельность, и принялись накладывать все более строгие ограничения на контакты между японцами и иноземцами. В числе прочих мер они объявили вне закона японскую торговлю за пределами Кореи и Окинавы. Все-таки португальским, испанским и британским купцам позволялось селиться на острове Кюсю, и, хотя англичане и испанцы в итоге отказались от идеи наладить торговлю с японцами – в 1624 и 1625 году соответственно, – десятки тысяч японцев успели принять христианство и образовать особую стойкую субкультуру. Подданных христианского вероисповедания сёгун начал подозревать в политической неблагонадежности. В 1630-е японские христиане, которым надоело быть изгоями, веря, что Бог придет им на помощь, подняли восстание, и при замке в Симабаре, неподалеку от Нагасаки, состоялась битва, которой суждено было стать одним из самых массовых кровавых побоищ XVII века: в сражении погибло тридцать семь тысяч мятежников-христиан. Сёгун, подозревавший, что к мятежу их подстрекнули иноземцы-католики, изгнал из своих земель португальцев, но оставил протестантов-голландцев: лишь им одним из всех европейцев позволялось отныне торговать в Японии. И хотя голландцы широко раскинули свои торговые сети по всему миру – от Нового Амстердама в Северной Америке до Молуккского архипелага в сегодняшней Индонезии, – в Японии им позволялось жить на одном только маленьком островке Дэдзима в бухте Нагасаки.
Между тем сёгун в порыве националистических чувств изгнал вместе с католиками и полукровок, рожденных от смешанных браков. “Мы, японцы, не желаем терпеть подобного смешения народов и, предвидя грядущую угрозу, не допустим, чтобы в будущем нами когда-либо правил кто-либо из потомков чужестранцев”, – постановили великие старейшины, говоря от лица сёгуна Токугавы Иэмицу.
Все эти меры против иностранцев принимались в рамках политики самоизоляции сакоку, благодаря которой в 1641 году Япония прервала всякие сношения с внешним миром, за исключением немногочисленных голландцев, которым позволялось оставаться на Дэдзиме. Эта политика сохраняла силу еще два с лишним столетия вплоть до появления в Токийской бухте коммодора Перри с его военным флотом. Но даже в течение того периода, когда иностранцев и близко не подпускали к Японии, не считая упомянутого островка на отшибе, они все равно имели возможность наслаждаться привилегиями гаремной культуры, признававшей особые мужские права. Начиная примерно с середины XVII века голландцам, жившим на Дэдзиме, позволили принимать у себя куртизанок из знаменитых борделей Маруямы – квартала развлечений в Нагасаки. Более того, прямо на мосту, соединявшем маленький островок с большим островом, была вывешена табличка, недвусмысленно гласившая: “Только для шлюх. Остальным женщинам проход воспрещен”. Время от времени голландцам разрешали перейти на материк, чтобы посетить сам квартал Маруяма, хотя в таких случаях к ним непременно приставляли особый конвой из японцев. Вообразите себе делегацию японских торговцев во Франции, которых сопровождают в изысканный парижский бордель гвардейцы Людовика XIV! Конечно, такое было бы немыслимо даже в том случае, если бы в ту пору в Европе проживали японские торговцы, а их там, конечно, в помине не было.
Сознательно или нет, но японцы, позволив голландцам посещать Маруяму, приобщили их к некоему эротическому празднеству, даже, можно сказать, к некоему клубу ценителей эротики, и людям, воспитанным в суровой Голландии XVII века, такое знакомство должно было казаться удивительным. Японская сексуальность была совершенно особым миром, не имевшим ничего общего с сексуальной культурой Европы. Это был изысканный, утонченный “полусвет”, о котором нам многое известно из японской литературы и японских ксилографий. Стремление к чувственным удовольствиям отнюдь не считалось там напрасным наваждением, подлежащим осуждению как смертный грех, а напротив, возводилось в ранг искусства. А нравственная – или безнравственная – идея, на которой зиждился этот полусвет, заключалась в убеждении, что мужчины имеют право наслаждаться утонченными любовными утехами на стороне точно так же, как они вправе отведать вне дома блюда изысканной кухни, какие не умеют готовить их жены. И потому японцы находили совершенно естественным такой порядок вещей, при котором существует особое сословие женщин (разумеется, чужих дочерей – не их собственных), специально обученных этому ремеслу и живущих исключительно им.
Квартал развлечений Маруяма представлял собой строго контролировавшийся район внутри еще более строго контролировавшегося мира, каким была Япония при династии Токугава. Страной правил сёгун, и его главной политической целью помимо задачи удержаться у власти было предотвращение новых гражданских войн и общественных беспорядков, которые раздирали Японию до того, как к власти пришел клан Токугава. Первый квартал развлечений в Японии был создан предположительно в начале XVII века, когда Тоётоми Хидэёси, самый могущественный из феодальных властителей Японии, разрешил своему любимому слуге открыть бордель (называвшийся “Янагимати”, или “Ивовый город”) неподалеку от дворца сёгуна. Примерно в то же время, главным образом под влиянием труппы облаченных в кимоно храмовых танцовщиц под началом Идзумо-но Окуни, легендарной героини японской культурной истории, на берегах реки Камо в Киото возник первый театр кабуки.
В конце концов, чтобы соблазны квартала развлечений находились в стороне от самой столицы, район борделей, чайных домов и театров перенесли подальше на юг – туда, где впоследствии вырос знаменитый квартал развлечений Симабара, который в свой черед послужил образцом для того самого квартала развлечений Маруямы в Нагасаки, куда наведывались голландцы. В 1661 году писатель Асай Рёи дал всему этому место название, под которым оно с тех пор и известно: укиё-э, “текучий мир”. Оно намекает на то, что жизнь человека коротка и мимолетна, а потому проводить ее следует в утонченных удовольствиях. О том, что голландцы принимали самое активное участие в жизни этого текучего мира, о каком и не слыхивали у них на родине, хорошо известно. Среди свидетельств тому – голландско-японский разговорник примерно 1770 года, составленный для владельца “Эби-я” – гостиницы в Киото, где останавливалась на постой делегация голландцев во время своего ежегодного паломничества из Нагасаки в Киото, тогдашнюю столицу сёгуната. Из восьмидесяти коротких фраз, содержавшихся в этом разговорнике, восемь имели непосредственное отношение к переговорам об услугах женщин, как, например, в таком диалоге:
– Вам нравится эта девушка?
– Да, очень нравится.
– Хотите, я сведу вас с нею?
– Да, пожалуйста.
– Договорились.
Голландцы в поисках удовольствий и сами сделались зрелищем, раздразнивавшим любопытство местных жителей: на множестве японских ксилографий XVIII и XIX веков изображаются толпы японцев, которые стекаются поглазеть на диковинных иноземцев, явившихся с очередным визитом в бордели Маруямы. На гравюре 1790-х годов прославленного художника Тёкосай Эйсё изображен голландец, легко опознаваемый по черной треугольной шляпе, курчавым бакенбардам и бороде, в разгар совокупления с куртизанкой из Маруямы. Есть там и подпись: куртизанка жалуется, что не понимает ни слова из речи голландца, и пытается втолковать ему: “А ну, давай-ка поживее!” На заднем плане стоит курильница с благовониями – эта деталь истолковывается так, что от голландца дурно пахнет и необходимо заглушить эту вонь.


Японские ксилографии, изображающие голландцев в квартале развлечений Маруяма. Музей Виктории и Альберта. Victoria and Albert Museum
Подобные сцены – неважно, достоверно их изображали или нет – многократно разыгрывались в течение следующих двухсот с лишним лет, пока голландцы сохраняли монополию на торговлю с японцами; их зачастую сопровождало изумление и время от времени негодование, о чем свидетельствуют упоминания в записках разных авторов. Япония, писал итальянский торговец Карлетти, “гораздо больше, чем все иные страны, потворствует человеческой похоти и к тому же изобилует средствами к удовлетворению всех прочих пороков”. Под “всеми прочими” пороками Карлетти, по-видимому, подразумевал гомосексуализм, который был широко распространен в Японии и в целом пользовался терпимостью, к великому ужасу чопорных и угнетенных европейцев.
В середине XVII века сёгун Иэмицу запретил женщинам выступать перед публикой, и в театре кабуки появилось множество юношей-подростков, которые не только исполняли женские роли на сцене, но и вне сцены вели фактически женскую жизнь, зарабатывая на жизнь гомосексуальной проституцией. В числе их клиентов были буддийские монахи, которым запрещалось иметь сношения с женщинами, а также многие самураи, для которых чистейшей формой любви являлся нансёку – секс с мужчинами. Уже в конце XVI века Алессандро Валиньяно, миссионер-иезуит, живший в Японии до изгнания оттуда католиков, писал о “страшном разгуле” японцев, предающихся “греху, не заслуживающему даже упоминания”. Гомосексуализм не только не осуждается японцами как смертный грех, сетовал уязвленный Валиньяно, но и “представляется чем-то совершенно естественным и похвальным”.
Разумеется, в Голландии тоже имелись публичные дома и проститутки, но ни в изобразительном искусстве, ни в литературе не сохранилось свидетельств, которые указывали бы на роскошную и изысканную атмосферу подобных заведений, на культ эротики, сопоставимый с тем, что столетиями существовал в японской культуре – во всяком случае, с начала XI века, когда госпожа Мурасаки написала бессмертную “Повесть о Гэндзи” (“Гэндзи-моногатари”), в основе сюжета которой лежит любовное наваждение. Легко было бы идеализировать тот мир утонченной эротики, что возник в великую эпоху процветания, последовавшую за образованием сёгуната Токугава в XVII веке. Исторические описания Японии той поры создают впечатление, будто вся страна блестела лаком, благоухала воскурениями и внимала звукам сямисэна.
На деле же, разумеется, все это великолепное сооружение питалось соками живших в жуткой нищете сельских жителей – точно так же, как сексуальный промысел в послевоенной Японии обусловливался отчаянным положением японцев в 1940-е годы, в период американской оккупации. Обитательницы кварталов развлечений Симабара и Маруяма начинали свою “карьеру” юными девушками, которых привозили из деревни и отдавали в бордель их же собственные бедные родители, полагавшие, что тем самым делают дочерям добро, ведь теперь они будут сытно есть, носить красивые платья и жить среди городской роскоши, вместо того чтобы день-деньской не разгибаясь надрываться в полях. Можно найти зловещее сходство между той давней ситуацией и сегодняшними обстоятельствами, толкающими тайских девушек на работу во всяких “массажных салонах” и ночных барах “гоу-гоу” в Бангкоке. Сегодня северо-восточный Таиланд выполняет ту же функцию, которую некогда выполняла сельская Япония, причем обслуживает в числе прочих и японцев: говорят, будто именно им сегодня достаются самые красивые девушки в Бангкоке, потому что они платят больше остальных мужчин. Что ж, ничто не ново под солнцем.
Тогда, как и сейчас, обстановка кварталов развлечений с их гейшами и чайными домами, лакированными комнатками, шелковыми простынями, горячим саке и искусно составленными букетами цветов играла роль сказочного мира, существовавшего в некоем параллельном пространстве, вдали от торговых дел и тяжкого труда большинства, и помогала на время забыть о будничной скуке и о семейных обязанностях. Как правило, японцы не стремились получать сексуальное удовлетворение от собственных жен или обеспечивать им его. Они стремились получать сексуальное наслаждение на стороне, с женщинами, которые обслуживали состоятельных мужчин и были весьма искушены в эротической технике. Кварталы удовольствий были наивысшим выражением японской тяги к изощренному мастерству, как и сами куртизанки, которые, как сказал один писатель о гейшах (а их нельзя было назвать проститутками в обычном смысле слова), так же мало походили на нормальных женщин, как бонсаи – на нормальные деревья. Это были поразительные видения, созданные для ночных утех, “шаманки, умевшие переносить мужчин в какой-то другой мир – мир грез”.
Наверное, далеко не все голландцы были ценителями тонкой чувственности, как о том свидетельствует гравюра Эйсё. Но можно не сомневаться, что голландцы охотно пользовались доступом к роскошному текучему миру Японии – точно так же, как и остальные иностранцы из Европы и Америки, которые получили к нему доступ после прибытия кораблей Перри в Токийскую бухту. Это неопровержимо символизировало принуждение Японии к внешней торговле, ведь местных женщин тоже принуждали к совокуплению с западными мужчинами. “К середине XIX века, – писал о Европе историк Гэри Льюпп, – секс без любви, привязанности и обязательств считался еще более постыдным, чем когда-либо раньше. А в Японии он был доступен: все происходило весело, никто никого не осуждал, как и было во времена первых контактов с людьми с Запада”. Неудивительно, что Таунсенд Харрис настаивал на своей доле развлечений. После заключения в 1854 году Канагавского договора, который Перри навязал Японии, возникли первые договорные порты в Симоде и Хакодате, и японские предприниматели вполне в духе своих предков XVI века принялись поставлять заезжим иностранцам японских проституток. Уже во второй визит Перри в Токийскую бухту лейтенант Джордж Генри Пребл увидел с палубы корабля “Маседониан” такую картину: “На холмах столпились местные жители. Они зазывали нас сойти на берег и с помощью самых недвусмысленных знаков предлагали нам переспать с их женщинами”. К 1857 году под давлением американцев японское правительство уже построило в Симоде так называемые дома досуга, где десяток или два десятка женщин обслуживали сотни иностранцев.
“Находилось немалое число людей, – писал Эрнест Мейсон Сатоу, британский дипломат, находившийся на службе в Японии в конце XIX века, – которые, внезапно освободившись от оков общественного мнения на родине и столкнувшись с соблазнами восточной жизни, стали вести себя без той чинной благопристойности, какая подобает студентам богословского колледжа”. (У самого Сатоу было двое сыновей от его гражданской жены-японки.) В 1860-е в Иокогаме насчитывалось пятнадцать чайных домов, обслуживавших иностранцев, и самый большой из них, называвшийся ганкиро, – заведение с лакированной резьбой и изящной живописью – соединялся с городским причалом длинным деревянным мостом. Ганкиро представлял собой три длинных зала, разгороженных на “стойла” с девушкой в каждом. Если девушка не была занята, она высовывалась наружу и показывала свое лицо при появлении нового клиента, надеясь заполучить его себе.
“Каждый мужчина, женатый или холостой, если ему это по карману, волен содержать любовницу и при этом не терять статуса уважаемого человека”, – писал Уильям Уиллис, британский врач, живший в Японии с 1862 по 1877 год. В опере “Мадам Баттерфляй” и дом для съема, и любовницу предлагает иностранцу японец-посредник: в Иокогаме конца XIX века обе эти услуги обычно оказывал клиенту один и тот же предприниматель.
Иными словами, печальная история О-Кичи (которая, как рассказывали, после своей злополучной встречи с Харрисом сама заправляла борделем и впоследствии умерла от сифилиса) была отнюдь не единична. Тысячи молодых японок в десятках японских борделей обслуживали иностранных посетителей, которые через некоторое время, когда женщины им надоедали, отпускали их на все четыре стороны. Но когда Япония в 1945 году проиграла войну в Тихом океане, сцена для оккупационных войск оказалась уже подготовленной, и американские солдаты принялись наслаждаться теми радостями, которыми иностранцы в Японии наслаждались уже несколько веков. Впрочем, следует отметить, что это явление обрело такой размах и вышло на такой уровень коммерциализации, о каком раньше просто не имели понятия.
А затем, спустя примерно двадцать лет, место действия перенеслось в Индокитай, где открылись, пожалуй, даже более широкие сексуальные возможности и воцарилась полная вседозволенность. Во Вьетнаме, как и в Японии, американцы следовали по пути, проторенному до них в прежние столетия. В эпоху французского колониального режима и в ранний период “независимости” Вьетнама коррумпированный и корыстный император Бао Дай отдал на откуп преступному тайному обществу “Бинь Ксуен”, контролировавшему вьетнамскую полицию, и азартные игры, и проституцию. При этом излишне и говорить, что часть барышей отчислялась самому императору. В эпоху французского колониализма проституция стала повсеместным явлением. И потому, когда во Вьетнам начали в большом количестве приезжать американцы, они просто вписались в уже установившийся порядок, тем самым невольно подтвердив свою репутацию нового поколения западных колонизаторов.
Во Вьетнаме вместо порочно-привлекательных японок-панпан на сцену вышли сайгонские девушки из баров, своей привлекательностью обязанные все тому же источнику – американским армейским магазинам, поставлявшим на вьетнамский черный рынок товары вроде дезодорантов или губной помады “Ревлон”. В Японии власти, неохотно идя на такие уступки, сочли необходимым предоставить массе рядовых американцев императорские привилегии. Во Вьетнаме же, стране гораздо более коррумпированной и неуправляемой, чем Япония, поставкой сексуальных услуг иностранцам занялись организованные преступные банды под покровительством правительства. Добавьте к этому катастрофические сдвиги, вызванные самой войной: десятки тысяч деревенских семей оказались оторванными от родных мест и не имели других источников дохода, кроме тех, что добывали проституцией их дочери. Подбросьте туда же огромный материальный соблазн, какой создавало присутствие более чем полумиллиона американцев с шальными деньгами на руках, – вот и все ингредиенты, необходимые для получения эротической вакханалии военной поры небывалых дотоле масштабов.
Отступление шестое
Комплекс Баттерфляй
“Я вполне мог бы написать либретто для Пуччини”, – сказал мне Паскаль “Рон” Политано, имея в виду оперу “Мадам Баттерфляй”. Пожалуй, ему и вправду удалось бы это, учитывая меру его литературных способностей и выпавший ему жизненный опыт. Политано, бывшему “зеленому берету”, выполнявшему военный долг во Вьетнаме, также довелось служить во всех азиатских горячих точках, куда США отправляли свои войска после Второй мировой войны. Сейчас он живет в деревенском доме в северной части штата Нью-Йорк. Тыльная часть его дома выходит окнами на зеленые холмы, поднимающиеся к Адирондакским горам. Его жизнь протекает среди книг и бутылок хорошего вина, он сочиняет стихи, рассказы и романы, и большая часть этих произведений уже опубликованы им за собственный счет. За его плечами – жизнь, полная приключений, и весьма бурная личная жизнь. Был в ней, в частности, такой эпизод: его жена, страдавшая серьезными душевными расстройствами, покончила с собой, оставив на попечение Политано четверых детей, в ту самую пору, когда он служил на военных базах в Японии, Корее, Окинаве, Таиланде и Вьетнаме, а также в различных местах в Европе.
Однажды во Вьетнаме Политано перехватил армейский грузовик, который вез странный груз – “горные” (рассчитанные на холодный климат) спальные мешки, уже ненужные и подлежавшие сожжению. По поразительному совпадению, как раз в тот день Политано уже побывал в католическом приюте для сирот, где дети спали на бамбуковых подстилках, причем одним одеялом укрывалось сразу несколько детей, так как одеял у добрых сестер-монахинь на всех не хватало. Потому-то случайная встреча и обнаружение целой горы спальников казались просто чудом, божественным провидением.
“Мы откатили эту громадину назад, откинули задний борт и принялись разгружать кузов, – рассказывал Политано. – “Знаете, что это такое?” – спросил я мать-настоятельницу. Она ответила: “Не знаю, но, пожалуй, они нам подойдут”. Там, во Вьетнаме, все наши штабные офицеры жили в помещениях с кондиционерами, телевизорами и ведерками со льдом, а где-то рядом эти детишки спали на тощих подстилках. В общем, я был чертовски доволен. Спальников с лихвой хватило на двести детей”.
А еще Политано, как и многие американцы в послевоенной Азии, путался с местными девушками, и не только во Вьетнаме, но и в Таиланде, а до этого в Корее, а еще раньше в Японии. Во Вьетнаме он слышал об истории с одним лейтенантом, которого подорвали осколочной гранатой (то есть намеренно убили свои же солдаты) по приказу сержанта за то, что лейтенант переспал с вьетнамской подружкой этого сержанта. Политано знал, что в Сеуле, который в то время еще не до конца оправился от разрухи, причиненной Корейской войной, девушек нужно было искать у так называемого водопоя – места в центре города, где военные брали питьевую воду. В Японии, где Политано работал на военную разведку в 1958 году, он снимал жилье в Сибуя-ку, одном из центральных районов Токио, и много времени проводил в Синдзюку, где долгие годы располагался главный столичный квартал развлечений.
“Шишки в основном кутили по субботам, – рассказывал Политано. – Ты натыкался на огромный черный лимузин с четырьмя звездами и понимал, что в бане сейчас генерал Лемницер. Это был почти ритуал. По субботам Лемницер и его замы отправлялись в Синдзюку, и там, в банях, их растирали и ублажали девушки-японки”.
Но самое волнующее воспоминание Рона Политано – эпизод, пережитый им в Японии и схожий с сюжетом “Мадам Баттерфляй”. Волнующее отчасти потому, что оно привязывает его и к долгой истории, уходящей корнями к подлинным событиям в Нагасаки XIX века, и к знаменитому сюжету, известному многим поколениям любителей оперы. Критики отмечали неправдоподобность главной темы этой оперы, а именно – будто пятнадцатилетняя японка так влюбилась в своего мужа-американца, что продолжала любить его даже после того, как он предал ее, а затем покончила с собой из-за пережитого бесчестья. Более радикально настроенные критики даже называли либретто Пуччини чистейшей фантазией на тему западного мужского превосходства и покорности и подчинения японских женщин, вплоть до самопожертвования, возводимых в какой-то женский идеал. В самом деле, не обязательно быть радикальным приверженцем феминизма, чтобы заметить, что предметом страстной и верной любви Чио-Чио-сан является ничтожный иностранец с Запада, которого она предпочитает своему поклоннику-японцу, принцу Ямадори. Такая подробность иллюстрирует представления, восходящие еще к Лодовико Вартеме: якобы непревзойденный западный мужчина олицетворяет в глазах восточной женщины некий романтический beau idéal, “прекрасный идеал”.
В течение десятилетий, пока его не вывело на чистую воду современное феминистское движение, Пуччини сходил с рук такой сюжет, в котором многие усматривали намеренное искажение действительности. Перелом в этом отношении произошел в 1988 году, когда вышел бродвейский мюзикл (а позже и фильм) по сценарию Дэвида Генри Хвана, “М. Баттерфляй”, где остроумно и беспощадно высмеивается опера “Мадам Баттерфляй”. Ключевая идея Хвана звучит в первом же действии, когда французский дипломат, который только что посмотрел постановку этой оперы в Пекине, говорит певице-китаянке, исполнявшей роль Чио-Чио-сан, что вся эта история кажется ему “красивой”. “Это оттого, что вы тоже с Запада, – язвительно отвечает певица, а потом развивает тему, выдвигая поучительную контрастную аналогию. – Представьте себе, что блондинка-красавица, которой пора возвращаться на родину, перерезает себе горло из-за неразделенной любви к японскому бизнесмену – коротышке, который дурно с ней обращается. Думаю, вы сочтете эту девушку сумасшедшей, идиоткой. А раз… [Чио-Чио-сан] – уроженка Востока и убивает она себя из-за западного мужчины, – что ж, это для вас “красиво”.
Пьеса Хвана, которая породила горячий отклик и дала повод для научных дискуссий, была вдохновлена не только оперой Пуччини, но и одним мрачным происшествием, сопряженным с сексуальной тайной и обманом, который, по мнению Хвана, являл собой некий перевертыш по отношению к сюжету “Мадам Баттерфляй”. Французский дипломат в Пекине, которого Хван назвал Галлимаром, страстно влюбился в китайскую оперную певицу, которая в пьесе Хвана носит имя Сун Лилин. Реальный прототип Галлимара, мелкий французский чиновник по имени Бернар Бурсико, принимал предмет своей любви за женщину, тогда как в действительности это был мужчина-трансвестит, исполнявший женские арии в китайской опере (где, кстати, вплоть до недавнего времени все роли исполнялись исключительно мужчинами). Чтобы ему не запретили видеться с ней, Бурсико выдал китайским властям французские дипломатические тайны, за это потом его обвинили в государственной измене и, выслав во Францию, посадили в тюрьму. Эти события и воспроизводит сюжет “М. Баттерфляй”. Галлимар выступает в пьесе рассказчиком и излагает печальную историю, уже сидя в заключении. Аллегория, которую Хван мудро выстраивает из двух взятых им сюжетов, имеет прямое отношение к давней грезе Запада о женственной Азии, которая видится ему послушной и покорной его желаниям, – грезе, которая обращается в кошмар, когда Галлимар узнает, что девушка-азиатка в действительности мужчина. Допуская поэтическую вольность, Хван делает Галлимара разработчиком западной политики во Вьетнаме, намекая на то, что расизм и сексизм, свойственные западным фантазиям об азиатских женщинах, распространялись и на азиатские страны в целом – от них ожидалась та же послушность западным требованиям, какую выказывали азиатки по отношению к западным мужчинам. В действительности же реальный Бурсико не имел никакого отношения к разработке какой-либо политической идеологии.
Пьеса “М. Баттерфляй”, выворачивающая наизнанку оперу Пуччини с целью разоблачить ее сюжет как мужскую колонизаторскую фантазию, – произведение блестящее, забавное и побуждающее к размышлениям. К тому же вряд ли кто-либо станет оспаривать замечание Сун Лилин о том, что если бы западная женщина сделала из-за азиатского мужчины то, что сделала Чио-Чио-сан из-за своего американского любовника, то западная публика зашлась бы глумливым хохотом. В самом деле, в силу опыта, полученного Западом в Азии, поступок Чио-Чио-сан, которого никогда не совершила бы даже полоумная западная женщина, казался западным зрителям не только правдоподобным, но и глубоко трогательным.
Исходя из предположения, что сюжет “Мадам Баттерфляй” – чистой воды расистская и сексистская выдумка, автор “М. Баттерфляй” навязывает политически либеральное толкование конца XX века взглядам на Восток и Запад, господствовавшим в конце XIX века, – взглядам, которых придерживались люди, разумеется, не ведавшие о сформировавшихся после 1960-х годов в Гарварде и Беркли представлениям о равноправии полов. В этом смысле пьеса Хвана выступает примером типичных ориенталистских заблуждений: она существует сама по себе, чуждаясь знакомства с реальной исторической подоплекой. Но факт остается фактом: точно так же, как странная история Бурсико и его китайской любовницы /любовника происходила на самом деле, правдивы и другие истории, связанные с жизнью западных мужчин в Азии. Опыт, полученный Роном Политано в Японии, был реален. Реальна, как выясняется, была и история, вдохновившая оперу Пуччини. В ее основу легла история любви, вынужденной разлуки и попытки самоубийства, которая в действительности произошла в Нагасаки – японском портовом городе, служившем обширной ареной для романтических и сексуальных отношений между европейцами и японками в конце XIX века.
На самом деле в случае “Мадам Баттерфляй” реальность и вымысел переплелись так тесно, что уже трудно отделить одно от другого. Однако видеть в сюжете этой оперы лишь чистую, беспочвенную и смехотворную выдумку значит намеренно закрывать глаза на тот факт, что азиатская сексуальная культура существенно отличалась от западной. А еще такой подход игнорирует реальные исторические подробности роковой встречи вымышленной Чио-Чио-сан с ее мужем-американцем, в том числе психологические особенности западного технического превосходства, которые в ту пору и вынуждали Японию подчиняться требованиям иностранцев, в том числе и требованию предоставлять японок для обслуживания сексуальных потребностей заезжих западных мужчин. Критики-ориенталисты предполагают, будто пятнадцатилетняя девушка, жившая в Нагасаки в конце XIX века, в жизни повела бы себя разумно и эгоистично, в духе западных феминисток конца XX века, тогда как в действительности пятнадцатилетние подростки далеко не всегда ведут себя разумно и эгоистично, в какой бы стране и в какую бы эпоху они ни жили.
Отличались ли японские девушки и женщины от западных девушек и женщин сто с лишним лет назад? Сохранились свидетельства, указывающие на то, что отличались – в силу преобладавших в Японии конфуцианских ценностей. Во всяком случае, осведомленные наблюдатели того времени считали именно так. Лафкадио Херн – самый известный западный автор, писавший о Японии в XIX веке, и к тому же человек, беспредельно восхищавшийся японками, говорил о “милой и по-детски доверчивой японской девушке” и противопоставлял ее “расчетливой, проницательной Цирцее из нашего пропитанного фальшью общества”. Японская девушка, какой изображала ее западная культура, возможно, была правдоподобным образом, порожденным такой культурой, где главнейшими ценностями считались послушность властям, верность долгу и почтительное отношение к иерархии – в особенности к конфуцианской иерархии, согласно которой на вершине народной пирамиды стоит богоподобный император, а на вершине семейной – досточтимый отец или муж. Сэр Эдвин Арнольд, английский журналист и поэт, который был женат на японке, дивился “милому изяществу и радостной безмятежности” японок. Он писал, что они “выказывают самые изящные знаки почтения и внимания и на приязнь откликаются крепкой привязанностью и верностью”. Элис Мейбл Бэкон из Нью-Хейвена, побывавшая в Японии в конце XIX века и основавшая там женский колледж с преподаванием на английском языке, тоже отмечала “бескорыстную преданность” японок. По ее словам, они с самого раннего возраста усваивают понятия долга и жертвенности.
Разумеется, у самой японской публики “Мадам Баттерфляй” редко вызывала восторг, и Чио-Чио-сан отнюдь не считается в Японии убедительным образом трагической героини. Дело в том, что реальная Чио-Чио-сан в глазах японцев выглядела невообразимо наивной простушкой, если не знала, что в Нагасаки конца XIX века большинство “браков” между японскими девушками для развлечения и западными мужчинами оплачивались этими самыми мужчинами и являлись временными, причем изначально мыслились именно как временные. Кроме того, ей следовало бы знать, что в патриархальной Японии женщины почти бесправны и что если бы у нее родился ребенок, то этот ребенок принадлежал бы своему отцу. А если она надеялась на что-то другое, тем более когда речь шла о таком записном негодяе, как Пинкертон, – что ж, в таком случае вымышленная Чио-Чио-сан выглядит не столько трагической героиней, сколько полной дурочкой.
Иными словами, взгляды нынешних японцев и Дэвида Генри Хвана весьма схожи. Но есть и иные объяснения безразличия японской публики к “Мадам Баттерфляй”. Ведь, как-никак, эта опера изображает Японию той поры, когда она находилась в полном подчинении у западных стран с их превосходящим военным могуществом. А тогдашняя Япония по причине слабости предоставляла женщин в распоряжение западных мужчин. Понятно, что подобные “исторические декорации” вряд ли способны вызвать восторг у современных зрителей в Токио или тем более в Нагасаки. Вопрос не в том, была ли Чио-Чио-сан дурочкой, ответ очевиден – была. Вопрос в другом: содержит ли эта история какие-то правдивые подробности тех личных и межнациональных отношений, какие существовали в последней четверти XIX века? И ответ на этот вопрос – да, содержит. Конечно, “Мадам Баттерфляй” – мелодраматическая опера, а не исторический документ. И все же она прекрасно справилась с задачей разоблачения как небрежного отношения западных мужчин к их временным “супругам”-японкам, так и глубоко патриархального характера тогдашнего японского общества, действительно требовавшего от женщин покорности и послушания вплоть до самопожертвования. В “Мадам Баттерфляй” отразилась не фантазия на тему мужской власти, а попросту сама эта мужская власть.
Опера, конечно, иллюстрирует глупость влюбленной пятнадцатилетней девушки, но еще она показывает цинизм Пинкертона, его мелкую и подлую натуру. В самом начале оперы Пинкертон, ждущий в снятом им доме появления нареченной, беззастенчиво признается, что для него Чио-Чио-сан – просто сожительница, которую он завел ради удовольствия. Присутствующий на свадьбе американский консул Шарплесс предупреждает Пинкертона, что было бы жестоким нравственным преступлением причинить вред такой невинной и хрупкой девушке, как Чио-Чио-сан, однако для Пинкертона этот союз – всего лишь игра. “Скиталец-янки в тиши морской стоянки ведет свои дела, идя на риски. И где судьба велит, он якорь бросает, – говорит он Шарплессу. – Ведь жизнь была бы ничтожна, если б он не срывал цветы где только можно”. Ну а что до Чио-Чио-сан, говорит он, то она восхитительна, это “миленькая игрушка”. Когда Чио-Чио-сан приезжает и сочетается с ним браком, становится ясно, что она-то как раз не играет ни в какие игры. Она говорит ему, что оставила и семью, и прежнюю религию, вместо нее приняв его веру.
Суть трагедии и заключается в этой иронии: Чио-Чио-сан переняла идею моногамии вместе с христианством, родной религией Пинкертона, а сам Пинкертон, освободившись в Азии от пут западной сексуальной морали, с радостью отказался от этой идеи. Подобно британским набобам предыдущего столетия Пинкертон перенимает сексуальные повадки туземцев, однако придерживается избирательной тактики, то есть пользуется удовольствиями, подобающими японскому дворянину, но не берет на себя никаких сопутствующих обязательств. Парадокс же в том, что гаремная культура отвергает моногамию, но не долг. Да, любовниц заводить позволительно, однако уважаемый человек не станет бросать жену. Пусть женщина всего лишь игрушка, но причинять ей зло нельзя. “В Японии никто и никогда не обращается с женщиной грубо, – писал Эдвин Арнольд. – Нигде и никогда ей не приходится опасаться жестокости, насилия или даже резких слов. Однако ее положение традиционно остается подчиненным”. Этим и объясняется одно из самых примечательных явлений в японском обществе – верность и преданность жен мужьям, которые, как выразился один писатель, “почитали разврат своим богоданным правом”. В конце XIX века муж-японец не подвергался ни малейшему общественному порицанию за неисправимое распутство, однако осуждался за пренебрежительное или оскорбительное отношение к жене.
Чио-Чио-сан, будучи японкой, пожалуй, должна была понимать правила игры, а именно что временные жены иностранцев в Нагасаки – это в лучшем случае благородные куртизанки, чей долг – угождать наделенным властью мужчинам. Тем не менее вполне извинительно, что она, выходя замуж за Пинкертона, полагала, что тем самым стала американкой. Ведь ей пришлось покинуть семью и отказаться от своей религии, а такой поступок как бы сделал из нее новую личность и освободил ее от традиционных правил японского общества. Об этом ясно говорится в либретто к опере Пуччини. Позже, когда девушки домогается принц Ямадори, Чио-Чио-сан говорит ему, что у него и так много жен – к чему ей пополнять их число? (На что Ямадори отвечает, что ради нее оставит всех остальных.) Чио-Чио-сан считает, что Пинкертон избавил ее от того второсортного положения, какое отводилось женщинам в культуре, допускавшей отношения с несколькими партнершами сразу. Когда Шарплесс, пытаясь убедить ее принять предложение Ямадори, говорит, что длительное отсутствие Пинкертона в юридическом смысле означает развод, Чио-Чио-сан отвечает, что так, может быть, дело обстоит в Японии, “но только не в моей стране – Америке”. К сожалению, любовь ослепила ее, лишив способности здраво судить об особенностях собственного положения, а самое главное – о том, что она вовсе не стала американкой и не получила никаких гарантий защиты, приняв христианство с его обязательной моногамией. Потому-то в финале, когда Чио-Чио-сан видит американскую жену Пинкертона, которая стоит возле ее дома, куда Пинкертон явился за сыном, она внезапно понимает, что на ее долю выпало самое худшее из обоих миров сразу: Пинкертон, беспринципно переняв полигамные традиции японцев, обошелся ней как с игрушкой, а вот требования моногамии, связанные с его “настоящей” женой-американкой, означали, что для Чио-Чио-сан в его жизни больше нет места. С другой стороны, поскольку сама она отреклась от всего японского, для нее больше не оставалось места в Японии. Единственным выходом для нее было самоубийство, и она совершает его, прибегнув к древнему японскому обычаю: перерезает себе горло тем самым мечом, которым много лет назад убил себя ее отец, переживший бесчестье. Обычно “Мадам Баттерфляй” воспринимается как история самоотверженной любви восточной женщины к западному мужчине, и это толкование верно. Но еще эта опера в мрачных красках рассказывает о беспринципном и двуличном Западе, зеркалом для которого стали глаза обманутой Чио-Чио-сан.
В ту пору, когда Пуччини писал “Мадам Баттерфляй”, европейцы уже были хорошо знакомы с представлением о том, что японка готова умереть в полном убеждении, что смерть предпочтительнее бесчестной жизни. Вскоре после того, как для американцев и европейцев Перри внезапно открыл Японию как страну, куда можно беспрепятственно плавать, Запад захлестнула бешеная волна новой моды, которую писатели называют японизмом или жапонизмом (на французский манер). Моне, Дега, Мане и другие художники влюбились в японские ксилографии, изображавшие текучий мир удовольствий и вольностей, которые вскоре стали прочно ассоциироваться с Японией. В действительности же Япония, весьма далекая от того образа игрушечной, “кукольной” страны, какой сложился в западном воображении, постепенно превращалась в мощную военную и торговую державу. В 1905 году, оглушительно и решительно разгромив Россию в Русско-японской войне (благодаря чему Японии получила контроль над Кореей и полуостровом Ляодун в китайской Маньчжурии), Япония стала первой в истории азиатской страной, которая одержала военную победу над европейской державой. В ряду главных символов, олицетворявших в глазах Запада Японию, хризантему стал вытеснять меч.
Но до той поры именно “цветочная красота” Японии зачаровывала и интриговала жителей Запада. В 1862 году в Париже и в 1875-м в Лондоне прошли выставки в галереях, специализировавшихся на японских гравюрах и произведениях искусства, и эти выставки пользовались огромным успехом среди сливок литературно-художественного мира. На Всемирной выставке, которая проходила в Париже в 1867 году, японское правительство представило для показа сто гравюр в стиле укиё-э, которые затем были выставлены на продажу. Порой зарисовки Японии преподносились публике в сатирическом ключе, в сумасбродном и смехотворном виде, как, например, в комической опере Гилберта и Салливана “Микадо”, впервые поставленной в 1885 году в Лондоне и выдержавшей 672 представления. Там изображалась очаровательно нелепая и экзотическая Япония с верховным лордом-палачом, верховным лордом-все-остальные и так далее. Впрочем, увлечение Японией принимало и почтительные формы, порой становясь едва ли не наваждением. В Париже искусствовед и художник Закари Астрюк, ныне забытый, но в свое время очень известный (его большой портрет кисти Мане висит в галерее Кунстхалле в Бремене), создал тайное общество, члены которого собирались побеседовать о японском искусстве, наряжались в кимоно, пили саке и ели палочками.
А еще была живая сенсация Садаякко Каваками, настоящая японская гейша, выступавшая на сцене и пользовавшаяся огромным успехом в США, Англии, Франции и Италии между 1900 и 1902 годами, ее называли японской Сарой Бернар. Садаякко вышла замуж за предприимчивого актера театра кабуки и авантюриста Отодзиро Каваками, и они, хлебнув лишений на родине, отправились искать счастья в Америку (где портрет Садаякко попал на обложку “Харперс Базар”), а затем и в Европу.
Еще до появления Садаякко на европейской сцене в самом начале XX века в Европе уже хорошо знали о японских гейшах, а также о театральных самоубийствах, которые любили совершать гейши для сохранения чести или чтобы положить конец неутешному горю. Такой осведомленностью публика была обязана популярным мелодрамам, по большей части английского авторства, где действие происходило в Японии, с названиями вроде “Гейша” или “Маленькая японочка”. Садаякко играла вместе с мужем в драмах, навеянных настоящим театром кабуки, и часто исполняла роль гейши, совершающей самоубийство прямо на сцене. Разумеется, это означает, что образ японской девушки, гибнущей на сцене, – отнюдь не западная расистская выдумка. В 1902 году Пуччини, уже приступивший к работе над “Мадам Баттерфляй”, в Милане увидел Садаякко в одной из ее коронных ролей – в спектакле “Гейша и рыцарь”. Это история гейши, которая отвергает поклонника, храня верность своему истинному возлюбленному, а потом совершает харакири, узнав, что ее возлюбленный, отнюдь не храня ей той же верности, обручился с другой. Один критик написал, что действие пьесы воспроизводит “тот тип безумного и необузданного опьянения страстями, что типичен для примитивных народов”, хотя, по правде сказать, ни в Японии, ни в Садаякко не было ничего примитивного. Так или иначе, Пуччини пришел в полный восторг от актрисы. Они познакомились и побеседовали. Садаякко, как писал ее биограф, “послужила для него живым прообразом японки и помогла наделить правдивыми чертами характер вымышленной мадам Баттерфляй”.
Сюжет оперы имел несколько источников и основывался на реальных событиях, многократно происходивших в разные годы XIX века. В начале века многие европейцы были наслышаны об истории немецкого врача и япониста Филиппа Франца фон Зибольда, который вступил во временный брак с куртизанкой Кусумото Таки из квартала Маруяма, вскоре родившей ему дочь. Через семь лет Зибольд уехал из Японии, обзавелся в Германии “настоящей” женой, а потом, двадцать девять лет спустя, снова приехал в Японию. Там он встретился и с женой-японкой, и с дочерью, которой было уже тридцать два года. Пройдя курс обучения на медика, о чем позаботился ее отец, она стала первой женщиной-врачом в Японии. В истории Зибольда прослеживаются некоторые составляющие сюжета “Мадам Баттерфляй” – временная жена, ребенок, “настоящий” брак в Европе, возвращение в Японию и встреча с временной женой-японкой, – хотя отсутствует обжигающая трагическая линия. В отличие от Пинкертона из сценария к опере Пуччини Зибольд явно не поступал со своей женой-японкой как полный мерзавец.
Через пару десятилетий после истории Зибольда нечто подобное произошло с Луи-Мари-Жюльеном Вио, который больше известен под своим писательским псевдонимом Пьер Лоти. Будучи офицером французского флота, он жил в Нагасаки в 1885 году и был “временно” женат на семнадцатилетней японке по имени Канэ. Сохранилась фотография, где Лоти стоит рядом со своим другом, а перед ними сидит Канэ в кимоно.
Лоти написал роман “Госпожа Хризантема”, опираясь на собственный дневник, который он вел в Нагасаки. Рассказчик, от лица которого ведется повествование, упоминает, что по прибытии в Нагасаки он сообщил другу, что намерен жениться “на маленькой женщине с желтой кожей, черными волосами и кошачьими глазами” и жить с ней в “бумажном домике”.[20] Затем он осуществляет свою мечту, отправившись к посреднику, который обеспечивает его и невестой, и съемным домиком с видом на бухту Нагасаки. За сто иен ежемесячно он получает в сожительницы девушку по имени Кику. Роман “Госпожа Хризантема” пользовался огромным успехом в Европе и после первой публикации в 1887 году переиздавался двадцать пять раз.
Книга Лоти в большей степени, чем история Зибольда, свидетельствует о легкомысленном отношении западных мужчин к их временным японским супругам, а еще более отчетливо эта тема звучит в произведении, которое и послужило самым непосредственным источником вдохновения для Пуччини. Это была повесть “Мадам Баттерфляй”, написанная американским адвокатом и писателем из Филадельфии Джоном Лютером Лонгом. Именно Лонг создал персонажей Чио-Чио-сан и Пинкертона (хотя они кажутся чуть ли не списанными с Кику и Лоти), и канву именно этой повести позднее использовали либреттисты, работавшие с Пуччини.
Есть убедительные свидетельства в пользу того, что рассказ Лонга был основан на реальном событии, о котором сообщила писателю его сестра Сара Джейн – жена миссионера-методиста, в течение пяти лет жившая вместе с мужем в Нагасаки в 1890-е годы, – когда посетила его в Филадельфии в 1897 году. Один дотошный исследователь истоков оперы “Мадам Баттерфляй”, ее реальной подоплеки и прототипов, убедительно доказал, что Сара Джейн рассказала Лонгу историю о трех братьях-шотландцах Глоувер, которые жили в иностранной концессии в Нагасаки. У одного из этих братьев – хотя неясно, у какого именно, – была связь с японкой по имени Кага Маки, которая почти наверняка работала в нагасакском квартале развлечений Маруяма. В 1870 году Кага Маки родила Глоуверу ребенка, а когда Глоувер женился на другой женщине, тоже японке, Кага Маки пришлось отдать ребенка его новой жене (хотя неизвестно, пыталась ли Кага Маки, которая дожила до 1906 года, покончить с собой).
Конечно, с тех пор утекло уже столько воды, что невозможно доказать, что неверным мужем Чио-Чио-сан действительно был один из братьев Глоуверов. Другой исследователь, занимающийся истоками “Мадам Баттерфляй”, Артур Гроос, считает, что реальным прототипом Пинкертона являлся лейтенант американского флота Уильям Б. Франклин. Однако можно не сомневаться, что сюжет оперы Пуччини опирался на какие-то факты, о которых сестра Лонга Сара Джейн знала от кого-то причастного к этим событиям или просто из сплетен, ходивших по Нагасаки конца XIX века. Не вызывает сомнения и то, что временные браки иностранцев с женщинами из квартала развлечений в Нагасаки были широко распространены и что от таких браков рождалось много детей. Быть может, в “Мадам Баттерфляй” и отразились какие-то фантастические элементы, в том числе о мужской власти, однако в целом ее сюжет представляется достоверным: то, о чем она рассказывает, вполне могло случиться на самом деле.
А теперь вернемся к Паскалю Политано, который в 1958 году, живя в Токио, познакомился с японкой в “Суехиро”, знаменитом ресторане в деловой части города. “Нас познакомил мой приятель-японец, – рассказывал Политано. – Она не была проституткой. Она была из хорошей семьи”.
На короткое время между ними завязались близкие отношения, а затем Политано пришла пора возвращаться в США. В отличие от Пинкертона, он не обещал своей подруге вернуться в Японию, но дал ей почтовый адрес своей тетки в Нью-Джерси, куда собирался заехать по дороге домой.
“И вот я приезжаю, – рассказывал он, – а тетя мне и говорит: “Слушай, тут тебе письмо какое-то пришло”. Я долго ходил взад-вперед, все не решался вскрыть конверт. Я боялся узнать, о чем там написано. Вообще-то азиатки не в моем вкусе. Но в чем-то они очень хороши. Я обращался с [моей японской подружкой] как с дамой. Я обращался с ней точно так же, как с любой другой дамой. Если не считать того, что я все-таки ее бросил, можно сказать, я обходился с ней все равно что с женой. Я раскрывал перед ней дверь и все такое. У этой девушки было огромное самоуважение, такое спокойное достоинство. В ней была какая-то цельность, порядочность, и, черт возьми, я иногда жалею, что не привязался к ней покрепче! Я бы не постыдился появиться с ней под руку в любом обществе”.
Рассказывая мне эту историю в своей сельской хижине, Политано вдруг ненадолго умолкает, его глаза слегка затуманиваются. Он человек, не чуждый литературе и нравственности, и он понимает значение этого эпизода, сознает его глубокую и печальную суть. “Она лишь намекнула на ребенка, – сказал он. – Вот какая она была женщина. Другая бы на ее месте написала: “Чтоб тебе пусто было, я беременна!” А она написала: “Я чту тебя”.
“Я чту тебя”, – повторил Политано. – Я уничтожил это письмо. Я просто не в силах был его хранить”.
Глава 11
“Я – сувенир. Ты – бум-бум”
Первые морские пехотинцы, получившие боевое задание во Вьетнаме, высадились на берегу Дананга 8 марта 1965 года, и с этого момента война, происходившая там, стала превращаться из вьетнамского конфликта в почти исключительно американский. До того влажного, душного дня, когда произошла высадка подразделений Девятой экспедиционной бригады морской пехоты, американские военные советники – а их насчитывалось около двадцати трех тысяч – теоретически лишь консультировали южновьетнамских военных, которые силились подавить разраставшееся коммунистическое восстание, опиравшееся на помощь Северного Вьетнама. Но, к великому раздражению американцев, южные вьетнамцы воевали плохо, часто вовсе отказываясь от сражений, и к тому году, когда произошла первая высадка морской пехоты в Дананге, восемьдесят тысяч вьетконговцев уже контролировали около 40 % территории Южного Вьетнама.
Позднейший анализ этой войны показал, что правительство Южного Вьетнама во главе с американским ставленником, президентом Нго Динь Зьемом, не желало идти на риск и нести большие потери в схватках с мятежниками-вьетконговцами, агрессивными и искусными бойцами. Вместо этого правительство Зьема хотело использовать местные силы для подавления других противников диктаторского режима, например буддистов, выступавших против диктаторских замашек президента, и для устранения потенциальных заговорщиков среди других южно-вьетнамских клик, боровшихся за власть. Так или иначе, Зьем и его родственники – скрытные, двуличные и деспотичные – рассчитывали на то, что американцы в конце концов напрямую вмешаются в борьбу с вьетконговцами и выполнят за них эту работу – подавят коммунистический мятеж. На начальном этапе войны, до 1965 года, пока количество американских советников все возрастало, американцы действительно вступили в схватку с вьетконговскими силами, а в феврале 1965 года истребители, размещавшиеся на авианосцах в открытом море, бомбили позиции вьетконговцев. К тому времени, когда в Дананге высадились морские пехотинцы Девятой бригады и американцы вступили в открытую войну, начавшую быстро набирать обороты, Зьема и его сторонников уже свергли противники, устроившие именно такой государственный переворот, которого те опасались, – все-таки, пускай и посмертно, они, можно сказать, добились своего.
Этот шаг, разумеется, не остался незамеченным врагом. Мятежники быстро привели в действие свою пропагандистскую машину и принялись штамповать статьи о разрушениях и страданиях, которые причиняют местному населению американские войска. “Радио освобождения Вьетконга” сообщало, что американцы захватывают земли, выгоняют людей из домов и крадут еду у простых людей. Американские войска “уничтожают наших соотечественников самым жестоким образом”. А вскоре наряду с такими обвинениями в адрес США, как беспорядочные бомбежки и истребление гражданского населения, пропаганда начала обрисовывать другие подробности сложившейся общей картины. В тайном радиосообщении, перехваченном американской разведкой в ноябре 1965 года, говорилось: “Широко распространилась и уже отравляет умы нашей молодежи порочная и непристойная ковбойская культура США. Унизительным бичом наших дней стала проституция. В Сайгоне появилось бродяжничество, ежедневно происходят изнасилования. Американские агрессоры серьезно подорвали наши обычаи, попрали нашу национальную традиционную мораль и втоптали в грязь наше человеческое достоинство”.
Эту тему Северный Вьетнам будет муссировать непрерывно – и в течение войны, и позже, после триумфа коммунистов в 1975 году. “Совместная политика США и клики их марионеток, поощряющая проституцию, вынудила множество порядочных и чистых женщин сделаться проститутками, – заявляло “Радио Ханоя” в июле 1975 года. – Проституция стала открытым бизнесом для сайгонской марионеточной клики, она ежегодно получает от него огромную прибыль”.
Последствия катастрофичны, утверждал Ханой: полмиллиона детей-полукровок – потомство американцев и проституток-вьетнамок, около трех миллионов случаев заболевания сифилисом в Южном Вьетнаме, сто тридцать тысяч наркоманов, а также смежные проблемы – “грабежи, кражи, шантаж и прочие напасти, в которых виновна послушная США марионеточная клика”.
Вполне вероятно, что цифра “три миллиона сифилитиков”, учитывая, что в 1975 году общая численность населения составляла пятьдесят миллионов, завышена (к тому же болезнью, косившей американские ряды, была гонорея, а не сифилис). Кроме того, нельзя сказать, что северовьетнамская пропаганда оказывала большое воздействие на общественное мнение в Южном Вьетнаме. Действительно, трудно было обнаружить явные указания на то, что пресловутая порочность американцев и их “марионеток”, как выражался Ханой, так уж тревожила большую часть местного населения.
И все-таки пропагандистская машина была, безусловно, права в главном: все эти сотни тысяч американских солдат и других американцев действительно дали толчок к настоящему взрыву проституции в Южном Вьетнаме. А это в свою очередь наводит на мысль, что вьетнамская война была не просто трагической, но еще и очень странной авантюрой. Странным, почти сверхъестественным было то сочетание невинности и порочности, какое наблюдалось в отношениях между полумиллионом американцев – по большей части юных и неопытных, – и вьетнамским народом, с чьей древней культурой американцы соприкасались, – главным образом в лице девушек из баров, любовниц и сутенеров. Если сама война поражала странным контрастом между бездумными “благими намерениями” американцев и теневым порочным, безжалостным миром вьетнамской политики, то для рядовых солдат этот странный контраст состоял в смешении смертельной опасности с эротическими удовольствиями.
Для тех армейских служащих, кто не участвовал в боях, – писарей, снабженцев, членов санитарных бригад и разведгрупп, техников, водителей, слесарей по ремонту грузовиков и вертолетов, – а также для тысяч других штатских, строивших казармы, базы, аэродромы, та часть “уравнения”, которая выражала смертельную опасность, была уменьшена, зато вторая часть, выражавшая эротические удовольствия, означала бо́льшую доступность и более высокое качество, если сравнивать с условиями задач для участников боевых отрядов. “Американцы в Южном Вьетнаме сделались сексуально привилегированными самцами, – писал Нил Шихан, который побывал там в начале 1960-х молодым репортером. – Обычно они заводили любовницу под видом домохозяйки… или приводили к себе женщину вечером, или задерживались после работы с секретаршей-вьетнамкой из офиса (у этих женщин не оставалось выбора – они боялись лишиться рабочего места). Все это считалось совершенно нормальным”. Но даже тем военным, кто патрулировал горы, джунгли и рисовые поля, повсюду подворачивались возможности заняться сексом. Авторы одной книги, в которой политика США подвергается суровой критике, обратили внимание на такой феномен: если направление во Вьетнам стоило многим американским матерям тревожных бессонных ночей, то для юных солдат, которых туда посылали, срок армейской службы становился “длительным загулом за государственный счет”.
“Тут повсюду творится разврат, и самый низкопробный, и изысканный, но, пожалуй, все это только на пользу нашей войне”, – сказал на какой-то стадии конфликта посол США в Сайгоне Эллсуорт Банкер, тем самым подтвердив правдивость коммунистической пропаганды. Дэвид Лэм, американский журналист-ветеран из “Лос-Анджелес таймс”, который находился во Вьетнаме с 1968 по 1970 год, сказал в одном интервью: “Наверное, половина американских солдат из числа самых молодых потеряли девственность во Вьетнаме”.
Секс и сражения, как насилие и грабежи, всегда сопутствовали друг другу во время войны – или, как говорилось в одной статье в “Тайме” за 1966 год, задавшейся целью преуменьшить важность секса во Вьетнаме, “когда Иисус Навин явился под стены Иерихона, за цевницами шли блудницы”. Возможно, так оно и было, и все-таки размах сексуальных возможностей, а также бешеный спрос на них, – учитывая, что дело происходило не в XII веке до н. э., а в XX веке, – вьетнамская война породила совершенно иную ситуацию. Никогда раньше секс не становился таким вездесущим элементом театра военных действий. Он присутствовал повсеместно – и в Сайгоне, и на полях, и даже в самых опасных фронтовых зонах, где девушки на мотоциклах зазывали солдат прямо из-за границы укреплений, и в тех определенных местах Азии – в Таиланде, на Тайване и на Филиппинах, – куда солдат отправляли в отпуск для “отдыха и развлечений” (“спирт и флирт” – так называли это сами джи-ай). Вряд ли излишествам предавались поголовно все солдаты, дипломаты и журналисты. Конечно, никто не отправлялся во Вьетнам специально для того, чтобы распутничать. Но для подавляющего большинства американцев, служивших в Индокитае (включавшем Лаос), секс становился такой же естественной составляющей тамошней жизни, как обеды в армейской столовой или пиво в офицерском клубе.
Доказательством этого утверждения служат данные о распространении венерических болезней. Ни один другой военный конфликт с участием США не давал цифр, хоть сколько-нибудь приближавшихся к показателям заболеваемости, зафиксированным во Вьетнаме. Согласно армейской статистике, в ходе Второй мировой войны за год на тысячу человек приходилось восемьдесят два случая заболевания венерическими болезнями. В Корее эта цифра достигала ста сорока шести. Во Вьетнаме же на тысячу солдат приходилось триста двадцать пять больных. Стоит задуматься: эти цифры обозначают, что ежегодно треть американских солдат, служивших во Вьетнаме, заражались заболеваниями, передающимися половым путем. А раз треть военнослужащих подхватывали триппер или еще нечто подобное, то общий процент американских солдат, посещавших проституток, должен был быть гораздо выше. Ведь легко предположить, что многие из этих мужчин все-таки следовали широко оглашавшимся предписаниям пользоваться презервативами (а может быть, им просто везло и они вступали в связь со здоровыми проститутками), так что они не попадали в число заразившихся.
Согласно данным Министерства обороны США, во Вьетнаме прошло службу 2 719 908 солдат, а это значит, что около девятьсот тысяч из них в то или иное время перенесли ЗППП в ходе войны. В самом деле, речь шла о масштабном разврате, низкопробном и изысканном, и это явление отразилось в солдатском жаргоне. Среди американских солдат было в ходу понятие pussy cutoff date, или PCOD, что означало крайний срок, когда солдат, чей срок службы подходит к концу, еще может заниматься сексом с местной девушкой (для них на этом жаргоне тоже имелась аббревиатура – LBFM, little brown fucking machine, “маленькая смуглая машина для секса”), так, чтобы на излечение от венерической белезни до возвращения на родину еще оставалось время. Для тех же, кто любил подвергаться опасностям, существовала рискованная APCOD – absolute pussy cutoff date, еще более отдаленная дата.
“Поскольку предстояло возвращение домой, то не хотелось подцепить какую-нибудь штуку, от которой потом не избавишься”, – объяснял Фрэнк Магуайр, который отслужил три срока во Вьетнаме, в основном в качестве советника при армии Республики Вьетнам – южновьетнамской армии. Однако не все строго придерживались этой крайней даты, PCOD, добавлял Магуайр, когда давал интервью у себя дома, в Коннектикуте: “В 1965 году в нашей команде был один морпех – отличный солдат, такой честный, порядочный парень. Не знаю уж, где он эту штуку подхватил – может, в солдатском борделе, а может, в Сайгоне, куда его посылали развлечься, но он подцепил такую форму гонореи, которая практически неизлечима. А ему предстояло лететь в Гонолулу на свидание с женой. Наверно, его командир написал ей, что его присутствие требуется в части”.
В Индокитае больше, чем в каком-либо другом месте на Востоке, где размещались тысячи американских и других солдат между окончанием Второй мировой войны и окончанием вьетнамской войны, случайные и не очень случайные связи с местными женщинами становились одним из элементов некоей общей культуры, пропитанной порочной экзотикой, которая представляла собой более “крепкий” вариант той замешенной на рок-н-ролле, сексе и наркотиках культуры, что на родине, в Америке, парадоксальным образом сопутствовала антивоенному движению. Очень многим солдатам, оказавшимся во Вьетнаме, было по девятнадцать-двадцать лет. Секс был дешев и легкодоступен. Повсеместно предлагались наркотики. Возникало ощущение морального отчуждения от официальной политики, рождалось скептическое отношение к мнимой цели этой рискованной, опасной для жизни затеи, и такие настроения среди военных только усиливались, по мере того как год за годом тянулся дорогостоящий и сомнительный конфликт. Такие настроения были тесно связаны с моральным разложением, символами которого стали секс и наркотики. Ты носил с собой винтовку и в бою убивал из нее врага, а мог погибнуть сам. Или спрыгивал с вертолета на поляну среди джунглей, попадая под обстрел партизан, засевших в ближайшей “зеленке”, а потом эвакуировался в лагерь при базе, и там, прямо за проволокой, можно было наскоро перепихнуться с туземкой – сами девушки из баров называли это “бум-бум”, – а может, даже побывать в настоящем традиционном азиатском опиумном притоне. Словом, ты вел максимально независимую жизнь, свободную от ограничений и запретов, бытовавших на родине, и при этом тебе не грозил арест.
“Азия была очень романтична, а Индокитай был самым романтичным местом в Азии, – рассказывал Ричард К. Холбрук, который в молодости, с 1963 по 1965 год, служил во Вьетнаме сотрудником иностранной миссии, а впоследствии сделал блестящую карьеру на дипломатическом поприще и в мире финансов. – Там был абсолютный рай на земле: война, драма, политика и секс. Что может быть лучше?”
Разумеется, Холбрук, давая это интервью, отчасти шутил, но лишь отчасти. Экзотическое приключение, каким становился Вьетнам для многих американцев, тот образ жизни, что стал там возможным во время войны, отведенная Вьетнаму роль “площадки” для буйного молодежного разгула, – все это слишком живо в памяти многих ветеранов.
Одной особенностью такого вида “спорта” – вьетнамского секса пополам с романтикой – был его повальный характер: занимались им представители абсолютно всех чинов и званий. Мелкие сошки развлекались где-нибудь в поле, снимали девиц в барах на улице Ту До или получали свою порцию орального секса в одной из множества саун с массажными кабинетами, работавших специально для иностранных солдат, которые называли эти заведения “минетными саунами”. Недолгое время правительство Зьема пыталось навязать Вьетнаму режим сексуального аскетизма и даже запретило танцклубы, хотя, по-видимому, такие меры никак не повлияли на контакты между солдатами и девушками из баров. И все же из уважения к идеологии Зьема генерал, командовавший силами США, Пол Д. Харкинс, запретил солдатам целоваться со своими подружками-вьетнамками, когда те прощались с ними в аэропорту.
Но между социальными уровнями имелись различия. Мелкие сошки в основном ограничивались девушками из баров с улицы Ту До. Офицеры, дипломаты, журналисты и штатские строители часто находили себе постоянных подруг из приличных семей – девушек, которые ни за что и никогда даже близко не подошли бы к Ту До, хотя высокопоставленные, “породистые” американцы во Вьетнаме не чурались вдобавок и баров, и массажных салонов. Многие представители этой последней, “аристократической” категории – люди, для которых Вьетнам стал ступенькой многообещающей карьеры в сфере дипломатии или бизнеса, – жили на виллах в колониальном стиле, возможно, ранее принадлежавших каким-нибудь французам – плантаторам или старшим администраторам, которые, конечно, имели в своем распоряжении автомобиль, шофера, прислугу и подругу из местных, чтобы не скучать в одиночестве.
Не одни только девушки делали Вьетнам особенным местом, хотя они и выступали в роли важного “аксессуара” определенного образа жизни. Особым колоритом обладала вся тамошняя атмосфера некоторого упадка и вместе с тем роскоши, особенно в первые годы, когда Сайгон еще оставался вполне безопасным городом. Там можно было заказать себе кофе с молоком и рогалики не хуже, чем в Париже, и завтракать, проглядывая “Сайгон пост” в саду отеля “Континенталь” и любуясь павлинами, гулявшими между столиками. Днем можно было поиграть в теннис в “Серкль-Спортиф” – очередном пережитке французского правления. А завершить день можно было, слушая сплетни и попивая французское вино в “Ля Сигаль” в квартале Чолон или, может быть, в дневном и ночном клубе “ Ту До”, который рекламировал своих “обворожительных старлеток” в той самой газете “Сайгон пост”, что читалась по утрам.
Дэвид Халберстам, прославленный репортер “Нью-Йорк таймс”, впервые оказался в Сайгоне в 1962 году, когда война была еще в начальной стадии и все военное присутствие США состояло примерно из десяти тысяч советников, – и ему сразу же бросилось в глаза, что почти каждого американского журналиста сопровождала красавица вьетнамка. Как выяснилось, Халберстам прибыл как раз вовремя и попал на прощальную вечеринку в честь Франсуа Сюлли – французского корреспондента “Ньюсуик”, которому правительство Зьема велело покинуть страну. Красивые вьетнамки, которых Халберстам увидел в тот вечер, совсем не походили на девушек из баров, ведь те едва ли не все приехали из нищих вьетнамских деревень, у них почти не было образования и уж точно не имелось никакого положения в обществе. Спутницы же репортеров, а также дипломатов и других высокопоставленных служащих, работавших во Вьетнаме, были представительницами среднего класса, которых влекло к симпатичным и щеголеватым молодым американцам, и роман с кем-нибудь из них казался блестящим приключением.
В этом смысле Вьетнам служил наглядной иллюстрацией того, как иностранцы в Азии часто становились привилегированной “кастой” просто потому, что они иностранцы. В частности, Сайгон лишь незадолго до того освободился от французского колониального правления, одной из характерных особенностей которого было активное межнациональное общение в высших социальных кругах. Теперь же, когда французы уходили и их место занимали американцы, все связанное с США приобретало особенно волнующий ореол: деньги, косметика из гарнизонных лавок, захватывающий быстрый темп жизни, семейство Кеннеди, власть и эти бесстрашные молодые люди в костюмах “сафари” цвета хаки, днем воевавшие, а вечером ходившие по модным клубам и ресторанам.
“У всех были красивые подружки-вьетнамки”, – писал Уильям Прохноу, который вел хронику жизни и приключений группы американских репортеров, освещавших события во Вьетнаме на начальной стадии войны. Репортер, который впоследствии стал ближайшим другом Халберстама в Сайгоне, Нил Шихан, в ту пору – красивый гарвардский выпускник, работавший на “Юнайтед-пресс Интернешнл”, – как было широко известно, имел привязанность – модную молодую красавицу по прозвищу Голубой Лотос. Это была “ошеломительная Saigonnaise, плотно вписанная каждым изгибом своего тела в дорогое парижское вечернее платье” – так описывал ее Прохноу. Вскоре Голубой Лотос познакомила Халберстама с некоей Рики, замужней школьной учительницей, и Халберстам встречался с ней в течение примерно года, рискуя навлечь на себя гнев ревнивого мужа, к тому же иногда имевшего доступ к оружию. “Фам стесь понравится, Дэвид. Тут так фасхитително!” – сказал Халберстаму на той вечеринке в честь отъезда Сюлли немецкий фотограф Хорст Фаас и кивнул в сторону Голубого Лотоса. Пожалуй, единственным журналистом, кого в тот вечер не сопровождала местная красавица, был главный соперник Шихана по цеху Мэлколм Браун, начальник “Ассошиэйтед-пресс бюро”, да и то лишь потому, что его подруга Ле Льё, которая бросила свою должность замдиректора информационного отдела при правительстве Южного Вьетнама, чтобы быть вместе с ним, временно находилась в отъезде. Браун и Ле Льё поженились и живут в Нью-Йорке, по сей день состоя в браке.
Всех репортеров обскакал один лихой американский солдат, который оказался их лучшим “источником”. Это был подполковник Джон Пол Ванн, легендарный военный советник при 7-й дивизии АРВ, который любил до поздней ночи засиживаться за разговорами в штабе в дельте Меконга, рассказывая Шихану и Халберстаму, что вьетконговцы одолевают коррумпированных южных вьетнамцев, которые часто избегают сражений. Ванн, мужчина не очень крупного телосложения, был при этом неординарной личностью и обладал совершенно фантастическим сексуальным аппетитом. У него остались на родине жена с детьми, а еще было две постоянные подруги в Сайгоне. Каждую он поселил в отдельном доме, и каждая не подозревала о существовании второй. Ванн совершил обряд бракосочетания с обеими, главным образом для того, чтобы их семьи остались довольны. Но двух подруг ему было недостаточно. По словам Шихана, который написал о Ванне книгу, нередко бывало, что тот в течение дня занимался сексом с обеими своими содержанками, а в придачу еще с одной или двумя девицами из баров на улице Ту До.
Разумеется, такая жизнь была немыслима на родине. Побывав в Сайгоне в 2002 году – а к тому времени многие американцы из числа отставных военных снова приехали в эту страну для работы или просто на отдых, – я познакомился с одним из ветеранов, и тот похвалялся, что с ним в одном доме жили две жены, причем они все спали в одной постели. Он с гордостью рассказывал, что, когда пришла пора уезжать домой, накануне победы коммунистов в 1975 году, ему удалось посадить обеих “жен” на военные самолеты, улетавшие из Вьетнама, так что он продолжал жить с обеими и в США. Всех детей, которых они ему родили, он отправил учиться в колледж.
Ванн отличался от большинства – он не только четко анализировал недостатки сайгонского режима, но и понимал, какое впечатление (а оно было далеко не благоприятным) производит на самих вьетнамцев такое “братание”. Он рассказывал Халберстаму, что всякий раз, когда он посещал кого-нибудь из окружных начальников в зоне, патрулировавшейся 7-й дивизией, ему предлагали женщину на ночь. Это был просто обычный знак азиатского гостеприимства. Но, отмечал Ванн, он всегда отклонял такое предложение. “Это роняет наш престиж в их глазах, – пояснял он. – Они вечно пытаются чем-то заманить нас, услужить. И черт возьми, слишком многие американцы в этой стране спят с вьетнамками. Это вредит нашей репутации. Вьетнамцам это не нравится. Это вызывает у них возмущение”. А еще, конечно, это создавало ощущение коррумпированности и ставило американцев в один ряд со многими продажными вьетнамскими офицерами, что было для американцев крайне нежелательно.
Такое мнение Ванна особенно примечательно, учитывая, что сам он переспал с бесчисленным количеством вьетнамок, хотя явно не в тех округах, где работал и где строил какие-либо отношения с местными жителями. Ванн был одним из тех немногих людей, кто понимал, что южновьетнамское правительство с его несметными полчищами коррумпированных чиновников, которые пекутся прежде всего о собственной выгоде, неспособно будет бороться на равных со своим упорным, целеустремленным, нравственно чистым врагом. “Мы проиграем по причине морального разложения Южного Вьетнама, потому что нам противостоит отличная дисциплина Вьетконга”, – писал он в письме другу на родину. Отчасти это моральное разложение носило сексуальный характер. Ванну стало известно, что один американский чиновник позволил вьетнамскому подрядчику украсть стройматериалы из американской оперативной миссии в обмен на женщин, причем в их числе была и жена того подрядчика. Конечно же, не секс стал причиной поражения Южного Вьетнама и США в той войне, но он являлся симптомом общей деморализации общества, за спасение которого боролись американцы. Сложно одержать победу в трудной войне, если одновременно купаешься в эротических удовольствиях.
“Прямо рядом с офисом ЮПИ находился бар “Мелодия”, и он стал постоянным местом встречи для журналистов”, – вспоминал Дэвид Лэм. Он говорил о более позднем этапе войны, когда Шихан и Халберстам уже уехали, а число солдат и репортеров резко увеличилось, поэтому сексуальная активность тоже возросла. “У многих парней из ЮПИ появились постоянные подружки из бара, с которыми они жили. Иногда я звонил туда и никак не мог дозвониться, потому что все они торчали по соседству и развлекались со своими зазнобами… В Америке нигде нельзя было с такой легкостью снять девушку. Это была просто фантастика – попасть в какое-то параллельное пространство, о существовании которого ты раньше и не подозревал”.
“Это был очень печальный опыт, но лично для меня он оказался чудесным, – объяснял Фрэнк Магуайр, отвечая на вопрос, почему такой человек, как он, – в ту пору он был холостяком слегка за тридцать – добровольно отслужил три срока на войне, которая, если вдуматься, была трагедией и для Вьетнама, и для США. – Я иногда ощущал чувство вины оттого, что мне было там так хорошо. Все смеются, когда я говорю, что возвращался туда из-за девушек и еды, но не такая уж это и ложь”.
Местом действия был Китайский пляж – настоящий Китайский пляж, куда американцы и прочие иностранцы ездили для отдыха на море во время вьетнамской войны, однако само действие было такого свойства, что вряд ли его включили бы в одноименный телесериал, снимавшийся в более поздние годы. Элисео Перес-Монтальво, сержант военно-воздушных сил, который проводил с пилотами технические разборы полетов на Данангской военно-воздушной базе, вспомнил характерную сцену, которая проливает свет на некоторые особенности тогдашней сексуальной вакханалии во Вьетнаме.
“Там, на Китайском пляже, была протянута проволока, отделявшая наш пляж от вьетнамского, – рассказывал он. – А прямо над водой, на невысоком обрыве, росли колченогие сосны”. Перес-Монтальво вспоминал об этом в интервью, которое давал в 2003 году для проекта “Устная история” Центра и архива Вьетнама при Техасском технологическом университете. “Ну и что же делали вьетнамки? Для джи-ай, для морпехов, они были, так сказать, отдыхом и развлечением. Они ехали туда, снимали койку, могли купить пиво. Там для них имелась специальная армейская лавка… Предприимчивые вьетнамки брали простыни, которые джи-ай приносили из своих казарм, и привязывали их наподобие загородок к соснам, так что получался четырехугольный домик-кабинка… И было видно, что морпехи даже ботинок не снимают, даже штанов. Видно было, как из-под такой простыни торчат их ноги”.
Подобная сцена пока что свидетельствует всего лишь о том, что молодые люди стремились получать удовольствия где угодно и в любых условиях, а удовольствия во Вьетнаме предлагались в самых разных условиях. А вот то, что, как рассказывал Перес-Монтальво, происходило после секса, свидетельствует о том, в каком тяжелом положении находились вьетнамцы: “Потом они выбрасывали презервативы, и можно было видеть, как маленькие вьетнамские мальчишки подбирали их, бежали к океану, прополаскивали в морской воде, а потом снова скатывали, засовывали в маленькие коробочки и пытались перепродать”.
Интервьюер поинтересовался: неужели их кто-нибудь покупал? Это казалось просто невероятным, ведь они стоили гроши, и джи-ай без труда могли купить их в армейских лавках. Можно было предположить, что морпехи, которые предусмотрительно захватывали с собой простыни на пляж, могли бы заранее подумать и о презервативах, но, может быть, кто-то из них и забывал об этом маленьком необходимом предмете и, не желая откладывать свидание с девушкой, вынужден был покупать то, что предлагали ему вьетнамские мальчишки. “Наверное, – отвечал Перес-Монтальво, – кто-то покупал. Не знаю. Морпехи тогда вели себя просто как ненормальные. Я их не виню. У них очень тяжелая работенка была – не то что у нас! И когда они возвращались в город, то отрывались по полной. Никто ведь не знал, что ждет его завтра”.
Я тоже их не виню. Я ведь был когда-то молод и понимаю, насколько сильными могут быть плотские желания. Вряд ли шесть миллиардов жителей на земном шаре появились благодаря умеренности, осторожности и воздержанию из моральных побуждений. Они появились точно так же, как в годы вьетнамской войны появились те полмиллиона детей-полукровок, о которых кричала коммунистическая пропагандистская машина. Теоретическая позиция армии США и американского правительства по данному вопросу состояла в порицании отношений, которые называли пресноватым словцом “братание” и которые обычно сводились к сексу с проститутками. На деле же правила соблюдались не слишком строго.
“В город уходить нам запрещалось, но никто за этим не следил, – вспоминал Перес-Монтальво. – Уйти было легко. Ты просто выходил за ворота. За воротами находилась наша гарнизонная лавка. Ты заходил в лавку, а потом шел себе дальше, смешивался с толпой, ловил попутку”.
Однажды, вспоминал он, в Дананге возле рынка он увидел телевизионщиков с одного новостного канала, они что-то снимали на камеру. Ему пришлось отвернуться, пока они не прошли мимо. “Мне не хотелось попасть в переплет, – пояснил он. – Мы тогда частенько ходили в отель “Дананг”, там был массажный кабинет с сауной. Я парился в сауне, а потом нанимал девицу, и она растирала меня, а потом делала минет” – за четыре доллара или за пять, насколько он помнил. Однажды он подхватил венерическую болезнь в том же отеле, и ему пришлось солгать о том, где он заразился, чтобы не сознаваться, что он ходил в город. Он сказал военному санитару, который лечил его (“он хотел меня повесить”), что заразился в одном из бункеров клуба для военнослужащих во время контакта с девушкой, которая там работала. Уже то, что такая история могла сойти за правду, красноречиво свидетельствовало о повсеместной доступности сексуальных услуг.
Это подтверждается и другими историями с вьетнамских фронтов. Одним из самых известных мест во Вьетнаме военных лет был Город греха, как называли его джи-ай, – кольцо баров в городе Ан-Кхе, в провинции Бинь Динь. Этот город находился ближе всего к разраставшемуся лагерю Кэмп-Рэдклифф, где размещались сменявшие друг друга военные подразделения, включая прославленную Первую конную дивизию, 173-ю воздушно-десантную бригаду и Первый батальон 50-й пехотной (механизированной) дивизии. В 1966 году “Тайм” рассказывал о Городе греха в статье, которая называлась “Восточный Диснейленд”. Сначала, после того как в Кэмп-Рэдклиффе разместилась Первая конная, американским солдатам причиняла вред “страшная нищета и алчность местного сброда”, по выражению “Тайма”. Главным образом это выражалось в быстром распространении венерических болезней. Тогда командующий Первой конной, генерал Гарри У. О. Киннард, запретил солдатам бывать в Ан-Кхе. Неудивительно, что солдаты приуныли. Они целыми неделями вели кровавые бои в джунглях, а когда возвращались на базу, “то и заняться-то было нечем”. Тогда к Киннарду явилась группа вьетнамских старейшин и предложила решение проблемы: пусть армия построит квартал борделей, и туда придут работать вьетнамки (официально род их деятельности будет называться “сферой развлечений”, и каждой сотруднице выдадут соответствующую карточку), им в обязательном порядке будут колоть пенициллин и устраивать еженедельный осмотр.

Западный мужчина с вьетнамской девушкой из бара, Сайгон, 1966 г. Marilyn Silverstone, Magnum Press Images
В итоге было выстроено в виде кольца около сорока бетонных строений, обнесенных проволокой-гармошкой, которые джи-ай называли “салоны бум-бум”, а посередине кольца помещалась клиника. Строения эти принадлежали вьетнамцам или даже иностранцам (один ветеран, с которым я разговаривал, вспоминал, что по крайней мере одно принадлежало индийцу), и в каждом находился бар, а позади него восемь маленьких кабинок, где и подавалось плотское угощение. Заведения эти носили названия “Каравелла”, “Парадиз”, “Золотая лань”, “Приятель с холма” и “Скромная чайная”. Девушка стоила от двух с половиной до пяти долларов в зависимости от запросов, хотя в статье из “Тайма” приводились слова одного не названного по имени джи-ай, который жаловался, что пять баксов – это неслыханная, грабительская цена, возмутительный пример того, как монополисты извлекают выгоду из своего положения, и предлагал Киннарду установить единый тариф на услуги – три доллара за сеанс. Зато показатели заболеваемости венерическими болезнями резко упали – отличный результат. Впрочем, американское армейское начальство продолжало испытывать некоторые нравственные сомнения по поводу принятых мер. “Руководство дивизии, поставленное перед выбором между моралью и боевым духом своих подчиненных, явно обеспокоено выросшим “Диснейлендом”, – говорилось в “Тайме”. Чего нельзя было сказать о солдатах.
“Города греха были публичными домами, санкционированными армейским начальством, – писал один ветеран в воспоминаниях, выложенных в Сеть. – Днем снаружи была выставлена военная полиция, которая следила за тем, чтобы все посетители уходили до наступления ночи. Джи-ай ходили туда выпустить пар и развлечься с “мамами-сан”. Пиво там стоило пятьдесят пиастров, а секс – триста. “Мама-сан” говорила: “ Ты джи-ай номер один”. Это значило – парень что надо. Номер десять означал минет, а секс называли “бум-бум”. А занимались этим обычно в комнатушке за баром”.
Сам Ан-Кхе, как рассказывал мне Фрэнк Магуайр, советник при АРВ, был “типичным городишкой в горах”. Он представлял собой полосу из домов и лавок, вытянувшихся вдоль извилистого шоссе: “Город греха стал дополнительным отростком, выросшим чуть в стороне от всего остального. Там стояло кольцом десять, а может и двадцать, маленьких баров, где сзади имелись каморки для уединения с девушками. Мне казалось, это чертовски здорово придумано. Парни торчали в джунглях по три-четыре дня подряд, а то и дольше, и порой они были до смерти напуганы и даже сами не понимали, где находятся. А когда они возвращались, то могли вот так расслабиться. Все заведения находились под надзором правительства, к ним и врач приставлен был, чтобы девушек проверять”.
Магуайр вспоминал и то, что, пожалуй, можно назвать самым привлекательным моментом: женщины, которые там работали, почему-то совсем не походили на проституток. Такой взгляд противоречит утверждению из статьи в “Тайме” о том, что именно “алчность местного сброда” во Вьетнаме приводила к созданию злачных мест вроде Города греха. Сколько же нужно высокомерия, чтобы осуждать бедняков за то, что они силятся получить хоть немножко денег от богатых иностранцев. К тому же, учитывая расценки, трудно представить, чтобы эти женщины сильно обогащались, во всяком случае по американским меркам. Некоторые из бывших посетителей Города греха вспоминали, что там работал вовсе не “сброд”, а довольно милые женщины, испытывавшие искреннюю симпатию к тем джи-ай, с которыми познакомились.
Это самое частое замечание по поводу секса по найму в Азии. Женщины там кажутся более милыми, свежими, готовыми угождать, чем их западные товарки. Они более нежные и не имеют ничего общего с теми грубоватыми, циничными дамочками, торгующими собственным телом, каких можно встретить, скажем, в Нью-Йорке или на рю Сен-Дени в Париже. Это бедные девушки, мечтающие о лучшей жизни для себя и порой искренне привязывающиеся к американцам, с которыми познакомились. Во Вьетнаме завязывались и относительно прочные связи, иногда заключались браки – правда, часто они распадались вскоре после приезда супругов в США. “Я никогда не смотрел на них как на проституток, – вспоминал Магуайр. – Они не вели себя так… деловито, что ли. Ну, знаете, типа: “Твое время истекло, все, следующий!”
Не было ли это просто самообманом, новым перепевом старых басен о шлюхах с золотым сердцем из вьетнамской глубинки? Безусловно, отчасти это было так. Ведь молодежи вообще и молодым американцам в частности свойственно желание нравиться. В любом случае Город греха – не столько сама проституция, сколько преходящий характер завязывавшихся там отношений – наводит на грустные мысли о том, что изначально печальными были свидания молодых людей, имевших деньги в кармане и дом на родине, куда они собирались вернуться, и нищих, обездоленных женщин, чьи дома разрушила война. “У тебя нет жена-сан, у тебя нет дети-сан. Кто плакать по тебе, когда тебя убивать?” – так, по воспоминаниям Магуайра, говорила одна женщина солдату, уговаривая его жениться на ней.
“У меня было такое ощущение, что американцы не относились к проституткам с каким-то презрением, – рассказывал Нгуен Нгок Луонг, который работал переводчиком и репортером сайгонского бюро “Нью-Йорк таймс” в последние годы вьетнамской войны. – Они ведь жили вдали от родины, без семьи, поэтому нуждались в этих женщинах. А те были очень милыми и брали недорого”.
Луонг, у которого я брал интервью в 2008 году в Хошимине, обычно сопровождал Глорию Эмерсон (одну из корреспонденток, с которыми работал) в аэропорт Тан Сон Нхат: они провожали джи-ай, отбывавших на родину. Многие из них увозили с собой жен-вьетнамок. В ту пору американское консульство вело бойкую торговлю визами для таких новоиспеченных супруг. “В Японии мало кто женился, – говорил Луонг, имея в виду редкость браков между американскими солдатами и их подругами-японками. – А во Вьетнаме это происходило часто. Почему? Не знаю”.
Возможно, это объяснялось тем, что ко времени вьетнамской войны межрасовые браки стали для Америки более привычным явлением, чем в годы оккупации Японии, поколением раньше. А может быть, причина была в другом: вьетнамки охотнее расставались со своей страной. Япония уже потерпела разгром и отстраивалась заново, а Вьетнаму – стране гораздо более бедной, чем Япония, – грозила реальная опасность захвата коммунистами. К тому же Япония была враждебной США страной, а Южный Вьетнам считался страной дружественной. Как бы то ни было, несмотря на широкое распространение самой грубой, низменной проституции во Вьетнаме, там зарождались и настоящие, глубокие, длительные отношения. “Мне кажется, многие девушки не становились проститутками в строгом смысле этого слова, – говорил Луонг другому интервьюеру. – Большинство из них жили в маленькой комнатке неподалеку, где все им оплачивал один конкретный джи-ай. То есть у них имелся постоянный парень из солдат, а когда его убивали или он уезжал домой, они заводили нового дружка. Им очень нравились джи-ай. Большинство американских солдат хорошо обращались с девушками, очень приветливо. Это надо было видеть своими глазами! Девушки держались тепло с джи-ай, а те были при них все равно что малые дети. Девушки по-матерински заботились о них”.
Магуайр соглашался, хотя и более мрачно смотрел на последствия обреченных отношений. “Девушки были милыми, – сказал он мне в интервью. – Они были способны на глубокие чувства, так что иногда происходили драмы”. Тем, кто торопится отмахнуться от баек о шлюхах с золотым сердцем, следовало бы выслушать его рассказ об одной женщине, работавшей в баре в Городе греха.
“Она воспылала страстью к моему командиру, – рассказывал Магуайр. – Это была очень милая девушка. Ее звали Джеки. Кажется, где-то у меня даже фотография ее сохранилась. Как-то раз у нас была вечеринка. Командир как раз готовился домой уезжать, и вот она пришла на вечеринку и сказала: “Знаешь, как я тебя люблю? Смотри, вот как”. И она достала нож и отрезала себе вот эту фалангу, – Магуайр показал на первую фалангу мизинца. – Потом она сказала: “Ради тебя я даже плечо могу отрезать”, и она не шутила”.
Продолжение было печальным: командир Магуайра уехал в положенный срок, а Джеки осталась во Вьетнаме. В 1975 году, когда коммунисты завладели югом, одним из их первых мероприятий стала отправка тысяч бывших проституток в специальные лагеря для перевоспитания. Хотя с женщинами там обращались как с жертвами американских империалистов и их прихвостней, лагерная дисциплина была суровой, а срок пребывания длился несколько месяцев. В 1978 году, спустя полных три года после окончания войны, я побывал с экскурсией в одном подобном центре в Хошимине и увидел там сотни девушек, которые сидели на полу и обучались разным ремеслам вроде ткачества и вышивания. Нам, экскурсантам, не дали возможности поговорить ни с кем из жительниц лагеря. В любом случае я не знал тогда, что можно было поискать глазами девушку с недостающей фалангой мизинца, хотя, вероятно, Джеки и другие “сотрудницы сферы развлечений” из Города греха оказались там или в подобном же учреждении где-нибудь в другом месте Вьетнама.
Примерно в то время, когда “Тайм” сообщил миллионам читателей о существовании официальных вьетнамских борделей для американских солдат, в США ненадолго разгорелась дискуссия о сексуальной морали этой войны. В речи, произнесенной в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, Уильям Дж. Фулбрайт, который, занимая пост председателя сенатского комитета по внешним сношениям, стал одним из главных критиков политики администрации США во Вьетнаме, высказал свое знаменитое обвинение: “желание похвастаться силой” втянуло Соединенные Штаты в войну, которая превышала их возможности и шла вразрез с их интересами. Одной из сторон деятельности американцев, пытавшихся “создать равновесие на месте хаоса… и честное правительство в стране, где коррупция стала почти нормой жизни”, объявлялось нравственное перерождение Вьетнама. На деле же само американское присутствие вызывало к жизни новые формы безнравственности.
“Сайгон превратился в американский бордель и в прямом, и в переносном смысле”, – заявил Фулбрайт. Он объяснял это не особенностями культуры Вьетнама, где всегда имели место проституция и двоеженство, а исключительно нищетой вьетнамцев и изъянами экономики, вызванными американским присутствием. Жены и дочери из вьетнамских семей, лишившихся всякой материальной опоры, добровольно поступали в любовницы к американским солдатам, к огромному позору и унижению родственников. “Стали совершенно обычными сообщения о том, что какой-то вьетнамский солдат покончил с собой от стыда, потому что его жена стала девушкой при баре”, – рассказывал Фулбрайт.
Американская пресса цитировала обвинение Фулбрайта во множестве статей, и за этим последовало опровержение со стороны смущенной администрации президента Джонсона. Спустя пару недель после выступления в Университете Джонса Хопкинса Фулбрайт проводил сенатские слушания по Вьетнаму, и в ходе слушаний он спросил министра обороны Роберта Макнамару, что тот думает о его “бордельном” обвинении. “Я не был в Сайгоне с 30 ноября. Тогда он не был борделем, думаю, что и сейчас им не является”, – ответил Макнамара. “Значит, вы со мной не согласны?” – переспросил Фулбрайт. Макнамара ответил: “Думаю, мы окажем плохую услугу и вьетнамцам, и нашим ребятам, если будем высказываться в таком духе. Конечно, это не значит, что в Сайгоне нет проституток. Они есть и в Вашингтоне, и я не собираюсь отрицать, что гражданские и военные служащие нашей страны являются их клиентами. Очень даже являются”.
В таком тоне отвечали те, кто не желал прислушиваться к критикам, которые указывали, что война, нацеленная на спасение Вьетнама от коммунизма, на деле разрушает его иными способами. Миссис Освальд Б. Лорд, изредка выступавшая эмиссаром ООН по заданию президента Джонсона, как раз завершала длительное турне по Азии, организованное госдепартаментом, когда Фулбрайт выступил с критикой. Лорд открыто заявила: да, “нечто в этом роде там происходит”, но тут же добавила, что “то же самое творится и здесь, в Вашингтоне”. В любом случае большинство американских солдат “вовсе не торчат в городе с девушками из баров”. Они заняты другими делами: например, помогают сиротским приютам и трудятся в центрах реабилитации, “вот как они проводят свои выходные”.
Рассуждения о том, что Сайгон ничем не отличается от других городов мира, подхватил “Тайм”, оправдывая и поведение американцев, и саму войну. “В родном штате Фулбрайта, Арканзасе, в городах Литл-Рок и Хот-Спрингс тоже не все ходят к проституткам, – писали журналисты, – хотя там множество продажных женщин, от работниц массажных салонов (пять долларов) до “девушек по вызову” при отелях, берущих двести долларов”. В статье приводился и телефонный номер (ФРАНКЛИН 4-2181), по которому могут звонить летчики с военно-воздушной базы Литл-Рок, чтобы “узнать, “есть ли лед”. Цена на лед начинается с пятнадцати долларов за блюдо”.
И все-таки отмахиваться от “бордельного” обвинения Фулбрайта, утверждая, что Вьетнам ничем не отличается от Хот-Спрингс, значит в упор не видеть очевидного. Разумеется, когда американские военные после Второй мировой войны заполонили Францию, Германию и Италию, там к их услугам тоже появились проститутки, однако нигде в Европе не строились публичные дома исключительно для обслуживания американских солдат и ни в Париже, ни в Берлине территории центральных районов не превращались в вереницы борделей, как это произошло, по описаниям многих ветеранов, на улице Ту До в Сайгоне. Впоследствии не один бывший джи-ай, размышляя о сексуальных возможностях, предоставлявшихся Вьетнамом, прибегал к простым аналогиям для описания происходившего там. “Мы были совсем как детишки в кондитерской лавке, как будто просто входишь и можешь съесть любое лакомство, какое захочешь, – говорил Майкл Харрис, радиотехник речной патрульной лодки, давая интервью Центру и архиву Вьетнама. – Большинство из нас поддавались соблазну или попадались на него как на приманку, в итоге втягиваясь и привыкая, и я восхищаюсь теми парнями, кто умел этому противиться: это были или женатые, или те, у кого имелись религиозные убеждения, – они не втягивались. Но все-таки большинство уступали соблазну, и, думаю, очень многие, как и я, подхватывали венерические болезни”.
Сексуальные соблазны встречались на каждом шагу даже в зонах боевых действий, так что командирам взводов приходилось решать, какой тактики придерживаться. Фил Прайс, рекламный работник из Лаббока, штат Техас, вспоминал, как стал командиром пехотного взвода вблизи Плейку и в первые дни солдаты сказали ему, что хотят его кое с кем познакомить. “Ее звали Ким, – рассказывал он, – на ней была черная пижама, она была хорошо сложена. Она распахнула пижаму и сказала: “Я – сувенир. Ты – бум-бум, ты разрешить мне бум-бум с джи-ай”. Прайс велел Ким уходить. Он объяснил это так: “Я не разрешил своим ребятам этим заниматься. Некоторые офицеры даже резинки покупали своим ребятам, вот до чего доходило; но только не я. Я не разрешал им “брататься”. Мы этого просто не делали. А причина была не в морали, а скорее в безопасности. Я подумал, что они [проститутки] и так уже знают, где стоят по ночам все мои пулеметы и прочее, так что все, хватит с нас. Пару раз мне даже пришлось бросать дымовые гранаты, чтобы отогнать их подальше”.
Другой бывший офицер рассказывал мне, как однажды заметил, что его подчиненные, кажется, стали возить батальонные джипы на мойку чаще, чем нужно, поэтому он решил отправиться на мойку самолично, чтобы понять, в чем дело. Так он узнал, что женщины, работавшие там, занимались “бум-бум” с солдатами. В Центре и архиве Вьетнама при Техасском технологическом университете есть цветной фотоснимок женщины с подписью: “Вьетнамская девушка с автомойки”. Там нет больше никаких объяснений, не указано, где именно был сделан этот снимок и почему. Сообщается лишь, что взят он из специального армейского отдела фотографий.
Но не только работницы автомоек подрабатывали проституцией, когда подворачивался удобный случай. “Мой опыт ограничивался почти исключительно девушками из прачечных”, – рассказывал другой ветеран, Эрик Ларсен, возглавляющий местный клуб ветеранов иностранных войн в принадлежащем ему баре в Паттайе, в Таиланде. Ларсен, с которым я беседовал в Паттайе, рассказывал о годах, проведенных во Вьетнаме, когда он работал в инженерном отряде вблизи Чу-Лай: “Мы приходили в город Чу-Лай, а там были прачечные – лачуги с рифлеными алюминиевыми крышами. Там-то и находились женщины, как дополнение к стирке одежды”.
Другой бывший солдат, Уэйн Смит, военный медик, служивший в 9-й пехотной дивизии, говорил интервьюеру, что секс косвенным образом использовали как поощрительную меру за убийство врагов. “В нашем отряде ребята, на чьем счету были подтвержденные жертвы, получали трехдневный отпуск для отдыха и развлечений”, – рассказывал он. “Этих ребят отправляли на пляж в Вунгтау”, – добавлял он, называя прибрежный городок к северу от Сайгона, где находилось большое скопление саун, баров и борделей.
Дон Хэлси, работавший в контрразведке в Тайнинь в долине Меконга в 1970 и 1971 годах, – один из многих американцев, которые понимали экономические предпосылки тогдашней ситуации: женщины из семей, зарабатывавших по несколько долларов в месяц, в нормальных обстоятельствах ни за что не стали бы проститутками, но не в силах были противиться соблазну шальных заработков и продавали свое тело несметным полчищам джи-ай.
“Бывало, ходишь по Сайгону, а они хватают тебя в переулках, – вспоминал Хэлси. – Как-то раз я зашел в универмаг в Сайгоне, а проститутка говорит: “Эй, джи-ай”, – и задирает платье. И это прямо посреди универмага! А во вьетнамских деревнях, куда мы попадали, мы иногда сидели среди джунглей и слышали какой-то рокот. Смотрим – что такое? – и тут подъезжает несколько мотороллеров “Хонда” с вьетнамскими военными, а позади них девицы, и вот они пытаются продать нам этих девиц прямо в поле. Да, грустно все это было, если помните эпизод из того фильма, “Цельнометаллическая оболочка”, с вьетнамцем и девушкой, – ну вот, так и в жизни сплошь и рядом бывало”.
Он имел в виду фильм Стэнли Кубрика, где показан весь военный опыт взвода морских пехотинцев – от суровой тренировки в Америке до смертельных боев во Вьетнаме. В одном эпизоде, пока американские солдаты отдыхают возле каких-то разрушенных бомбежкой строений, к ним подъезжает мотоцикл с девушкой на заднем сиденье, и они по очереди отлучаются в заваленные щебнем руины, где занимаются с ней сексом.
Уэйн Смит вспоминал, что “сауны” находились и прямо в штабе дивизии в Тан-Ане. “На самом деле это был публичный дом, – пояснял он. – Американские солдаты трахали там всех этих смазливых вьетнамских девочек-подростков. В ту пору я пытался как-то логически обосновать это. Я думал: когда-нибудь мы разобьем врага, тогда вьетнамцы станут свободными, и проституция исчезнет. Но ясно, что все это была просто чистая эксплуатация”.
По поводу саун Рон Политано, давая мне интервью, вспоминал, что знал одну кореянку по прозвищу Мисси Ким, которая, по его словам, управляла целой сетью этих заведений. Политано подружился с ней – отчасти потому, что сам знал несколько слов по-корейски. Как-то раз он навестил ее в Сайгоне, и она познакомила его с вьетнамцем, который, как понял Политано, и является владельцем всех этих саун. Новый знакомый пригласил его пообедать. “В этом парне что-то было – в том, как он на меня смотрел, – вспоминал Политано много лет спустя. – Он спросил меня, не хочу ли я взглянуть на его офис. И мы отправились туда. “Вы живете на Гавайях, – говорит он. – Мы с вами только что познакомились, но вы мне сразу понравились. Я собираюсь посвятить вас в свою тайну”. Этот человек отпер сейф в своем кабинете – “большой такой, как в старых фильмах про “Уэллс Фарго”,[21] с латунными ручками и двумя дверями”. Там, как понял Политано, хранилась выручка, поступавшая от “минетных саун”: “Дверь закрылась. Мисси Ким с нами не было. А внутри сейфа лежали мешки с деньгами – пиастрами, французскими франками, голландскими гульденами. Я увидел кучу американских долларов. Эти мешки чуть ли не вываливались из сейфа. Не могу назвать точную сумму, но речь шла о миллионах”.
Вскоре Политано уловил, к чему клонит его знакомец. Он спрашивал, сколько денег Политано мог бы захватить с собой, когда полетит домой на Гавайи. “Американцы проигрывают войну, – сказал он. – Знаете, что со мной будет, когда сюда явятся важные ребята из Ханоя?” Конечно, если бы они поймали его со всеми этими мешками денег, то вздернули бы на фонарном столбе. “А можно я задам вам очевидный вопрос? – сказал ему Политано. – Ради чего мне это делать?” “Ради чего? Ради полумиллиона долларов”, – ответил тот. “Ну да, а если меня поймают, то я пропал”, – ответил Политано. “Так что я ушел. Спасибо и все такое. Без обид. Я больше никогда его не видел, но иногда вспоминаю и думаю: интересно, что стало со всеми теми деньжищами?”
Связи с местными женщинами стали настолько обычным делом, что мало кто из американцев во Вьетнаме независимо от их ранга удосуживался хотя бы задуматься, какое воздействие оказывает эта сторона войны на отношение вьетнамцев к американцам. Похоже, этот вопрос редко затрагивался в высших звеньях цепи инстанций, хотя в нескольких случаях – например, в пору выступления Фулбрайта в Университете Джонса Хопкинса и репортажей в “Тайме” о Городе греха, – он все же становился темой публичного обсуждения. В июле 1965 года в телеграмме, в целом оптимистичной, из посольства в Сайгоне, адресованной госсекретарю США, упоминалось о “некотором недовольстве” все более заметным присутствием американцев: оно вызывает рост арендной платы для местного населения и товарный дефицит. А еще, говорилось в телеграмме, “Сайгон дейли ньюс” перепечатала ряд статей из “Чинь Луан”, сайгонской ежедневной газеты, где “жалуются на то, что широкое хождение долларов в Дананге вызвало падение пиастра, обмен бензина на местные товары часто создает серьезные пожароопасные ситуации, процветают бары, проституция и т. д. Все эти явления объясняются присутствием американского личного состава”. Но, несмотря на все это, сообщалось далее в телеграмме, “по отзывам вьетнамцев, американский личный состав ведет себя правильно и дисциплинированно”.
Это редкое замечание о барах и проституции было сделано спустя четыре месяца после высадки первых морских пехотинцев в Дананге, однако оно не вызывало сколько-нибудь серьезных дискуссий в Вашингтоне или в Пентагоне – отчасти потому, что рост проституции лишь в редчайших случаях вызывал протесты в самом Вьетнаме. Еще в 1964 году командующий южновьетнамскими силами в Дананге бригадный генерал Нгуен Чань Тхи написал в “Сайгон пост”, что получил триста писем от родителей школьников с жалобами на то, что бары на бульваре Док Лап находятся слишком близко от школ в том районе города. Девять баров уже закрыты, сообщал он.
Этим дело и ограничилось. “Нам казалось, что это естественно”, – сказал Нгуен Нгок Луонг, когда я спросил его, как вьетнамцы в Сайгоне относились к “охоте” американцев на местных женщин. Конечно, на проституток поглядывали косо, но они промышляли тут еще при французах и продолжали свой промысел при американцах. Кроме того, вьетнамцы и сами вели себя так же, как иностранцы, хотя предпочитали искать развлечений в менее заметных злачных местах. Коммунистическая пропаганда устраивала вокруг проституции шумиху, а южные вьетнамцы нет, и, поскольку от местных жалоб не поступало, американские власти лишь предупреждали своих сограждан об опасности заражения венерическими болезнями, но не предпринимали никаких мер, чтобы положить конец происходившему “братанию”.
Тем не менее в таком попустительстве американского командования имелся нравственный изъян. Я брал интервью у одного ветерана – морского пехотинца, очевидца смертельных боев в долине Ашау, которая стала крупнейшим участком продвижения северо-вьетнамских войск к югу. “Это было плохо, – сказал он. – Даже трудно объяснить людям, насколько плохо”. Он сообщил мне, что никогда не пользовался отпусками для “отдыха и развлечения”, которые ему предоставляли, из страха, что после таких развлечений у него ослабнет бдительность, когда он вернется на пост. “Я знал ребят, которые погибли из-за того, что мечтали о каких-то своих девицах из Бангкока и не проявляли должной бдительности”, – пояснил он.
Конечно, было бы трудно доказать, что мечты о бангкокских массажных кабинетах действительно серьезно влияли на успех военных действий во Вьетнаме. И все-таки если секс в годы вьетнамской войны был побочным эффектом самого конфликта, то он косвенно отражал и те роскошные условия, в которых воевали американцы: у них было все передовое военное снаряжение, какое только можно было купить за деньги, а также продуманная система обеспечения материальными удобствами и предметами роскоши, типичными для американского образа жизни. У них имелся избыточный штат чиновников, внушительное количество гражданских служащих, помещения с кондиционированным воздухом, армейские лавки наподобие сети “Уолмарт”, индейки ко Дню благодарения, Боб Хоуп и Ракель Уэлч для развлечений, отдельные клубы для офицеров и срочнослужащих, а также полностью оплачивавшиеся из казны отпуска для джи-ай, которых отправляли в различные места Юго-Восточной Азии для “отдыха и развлечения”, где их ждали “спирт и флирт”. Речь здесь совсем не о том, что все это было неправильно, а о чудовищном контрасте с теми условиями, в которых воевали враги. А воевали они яростно, но экономно. У них появлялось все более хитроумное вооружение (значительная часть которого была захвачена у слабой АРВ), но совсем не было авиации, солдатской формой служили черные пижамы, а ботинками – сандалии, вырезанные из старых автопокрышек, в помине не было борделей, пива, ведерок со льдом, массажных кабинетов, баров “гоу-гоу”, увеселительных поездок в Бангкок, Сидней или Куала-Лумпур для “отдыха и развлечения”, не было укрытий из простыней среди сосен, где можно было заниматься сексом прямо на пляже, не снимая ботинок, не было полуденных свиданий с вьетнамками в гостиничных номерах, не было и содержанок из местных, каких заводили в городе мужчины, чьи жены дожидались их коротких приездов на побывку дома, в Бангкоке или США. Конечно, повседневная жизнь противника во Вьетнаме не исключала сексуальных похождений с женщинами. Секс не был причиной нашего поражения во Вьетнаме, однако он был одной из причин, по которым мы шли воевать.
Во время одной из поездок Фрэнк Магуайр был откомандирован на пост при госдепартаменте в Объединенном американском отделе по общественным делам (JUSPAO) в долине Меконга. Периодически ему приходилось ездить по делам в Сайгон, и он всегда останавливался там в одной и той же гостинице, у которой был заключен договор с госдепартаментом. И он рассказал мне, что каждый раз, когда приезжал туда, к нему в номер приходила вьетнамка для постельных утех. Он не просил о женщине, она всякий раз приходила сама. “Меня направляли туда в командировку, да и остальные постояльцы тоже были людьми из госдепа. И почему-то ко мне всегда присылали одну и ту же женщину, – рассказывал Магуайр. – Она была очень милая. Подарила мне цепочку с крестиком. Она была просто одним из гостиничных удобств. Не помню, давал ли я ей деньги. Наверное, давал, – просто, кажется, она сама о них даже не просила”.
Пит (я буду называть его так – он предпочитает анонимность) был летчиком и долгое время работал в Индокитае начиная с 1956 года: в ту пору он водил грузовые самолеты из Сайгона в Нью-Дели с посадками в Бангкоке и Калькутте. После этого он работал пилотом в “Эйр-Америка” – авиалиниях, обслуживавших ЦРУ во время войны в Индокитае. Он вспоминал свое первое знакомство с сексуальными возможностями Юго-Восточной Азии во время одной из ночных остановок в Бангкоке. “Представитель воздушных войск – он жил в гостинице, которой уже не существует, – повел нас в одно место, где за стеклянной дверью сидело множество девушек, у каждой к одежде был приколот номерок. Они сидели и вязали, потому что телевизора не было”. Это было для него открытием – нет, даже откровением. Это было знакомство с каким-то параллельным, еще неведомым миром эротики: “Это настолько отличалось от всего, что я видел раньше! Я-то родился и вырос в Пенсильвании. А тут секс подавался совершенно открыто, только руку протяни”.
Пит охотно шел на риск, среди других ветеранов он пользуется репутацией смельчака. Он управлял во Вьетнаме самолетами-разведчиками, иногда навлекал на себя огонь, чтобы установить местонахождение врага, готовя ответные воздушные атаки. Он вспоминал свои первые дни в Сайгоне. В 1960-е улица Ту До уже представляла собой “сплошную вереницу баров, хотя тогда у дверей баров для экспатов еще не торчали нахальные зазывалы. И девушки в ту пору еще не клянчили выпивку. “У меня была парочка постоянных девиц, я их у себя поселил, – рассказывал он. – Всякий раз ходить в город надоедало. Да это и дешевле обходилось, чем каждый вечер таскаться в город, а я старался экономить. Первой девушке я платил пятьдесят баксов в месяц, а еще пришлось купить ее матери коробку “Уинстона”. Если заваривались серьезные дела, я просто отсылал этих девиц, но они только рады были… В 1970-м и 1971-м я был в Лаосе. Если нужно было сбагрить надоевшую девицу, это влетало в цену мотоцикла “Хонда” с объемом двигателя сто пятьдесят. Я знал одного парня, у которого по Вьентьяну бегало целых пять “Хонд”, и это послужило примером для нас. Мы зарабатывали кучу денег. Мне только и нужно было, что купить одной девушке мотоцикл”.
Пит рассказывал о своем опыте в Индокитае честно и откровенно, это были истории о похождениях молодого человека, который имел деньги и жил в таких местах, где на протяжении столетий бедным деревенским женщинам приходилось кормиться, продавая свои прелести мужчинам. Было бы очень легко осуждать его поведение, как и поведение тысяч других мужчин, которые вели себя так же безнравственно и порочно, однако, вынося свое суждение, нельзя забывать об экономических и психологических реалиях. Какой путь был бы более нравственным для хорошенькой девушки из какой-нибудь разоренной войной деревни во Вьетнаме или Лаосе, где, кстати говоря, в каждой деревне имелся свой бордель, – трудиться на рисовых полях и жить с мужем, грубым крестьянином, который бил бы ее, напивался, играл в азартные игры и посещал вышеупомянутый бордель, или отправиться в город и там заниматься сексом за деньги с мужчинами, которые хорошо с ней обращались и даже давали ей деньги на то, чтобы купить родне нового водяного буйвола взамен издохшего или чтобы заплатить за обучение младшего братишки в школе? Ну а если поглядеть на все это глазами среднестатистического двадцатидвухлетнего парня, которому нечем заняться вечером? Разумеется, с его стороны было бы куда более нравственно сидеть весь вечер взаперти в своем бараке или в гостиничном номере, читая Новый Завет и отказываясь пойти на улицу Ту До выпить пива, и ни в коем случае не открывать дверь, даже зная, что в нее стучится создание с длинными шелковистыми волосами, гладкой смуглой кожей и ароматным, пряно-апельсиновым дыханием. Сколько, интересно, их было, таких праздных молодых людей, которые в самом деле противились этому соблазну?
Пит не противился. “Во Вьентьяне в одной гостинице устраивались вечеринки по субботам, они назывались танцами с чаем, – рассказывал он. – Там собирались девицы. Они не были профессионалками, но уж если тебе какая-то из них приглянулась, она с большой радостью с тобой шла. Это были девушки из лучших вьентьянских семей. А еще во Вьентьяне был один бар, самой старшей девчонке там было, наверное, лет пятнадцать. Не знаю уж, сколько было самой младшей. Этот бар был прямо напротив гостиницы, где я обычно останавливался. Как-то раз мы пошли туда с приятелем. А там оказалась всего одна девчонка. Она встала между нами, схватила нас за ширинки и спросила: “Ну, кто первый?” Она сказала мне, что ей одиннадцать лет, и это было очень похоже на правду”.
Я спросил Пита: каково ему было, зная, что ей всего одиннадцать лет? Он ответил не задумываясь. “Мне было все равно, – сказал он. – Я знал других ребят, которые спали с одиннадцатилетними”.
Отступление седьмое
Личное пространство
Приблизительно через два года после того, как Эми Р. приехала вместе с мужем в Сингапур, их брак распался при таких же обстоятельствах, при каких в Азии распадается немало браков иностранцев с Запада. Конечно, для Эми вряд ли может послужить утешением осознание того, что она не одинока, тем более что для того, чтобы перебраться в Сингапур, она бросила отличную карьеру в США (она проработала тринадцать лет в издательском деле, из них четыре года – в должности коммерческого директора и менеджера по продажам). Ее муж, датчанин, был направлен в Сингапур своей фирмой, крупной судоходной компанией, и в 2002 году Эми отправилась вслед за ним.
“В сентябре 2004 года он поехал в командировку в Данию и оттуда по и-мейлу написал мне, что наш брак больше не имеет силы”, – вспоминала она. По настоянию друзей Эми сходила к адвокату, и тот сказал ей, что, скорее всего, ее муж связался с другой женщиной, но вначале она не поверила. А потом, когда ее муж прилетел домой из командировки, она увидела на его кровати цифровой фотоаппарат и два авиабилета. “Я спросила его, что это такое, но он ничего не ответил, – рассказывала Эми. – Потом я заглянула в фотоаппарат, а там оказались снимки на фоне какого-то тропического райского места, где он был снят с какой-то женщиной в очень откровенных позах. Авиабилеты остались от поездки на Бали… Она оказалась филиппинкой. Моложе меня, лет тридцати с чем-то, но лицо у нее было грубоватое и фигура не очень”. Еще Эми узнала, что любовница ее мужа не имеет образования, однако между ним и “этой неграмотной женщиной”, как она выразилась, возникла какая-то приязнь и отношения, которые устраивали их обоих. Она видела их переписку по и-мейлу: филиппинка присылала ее мужу свои вызывающие фотоснимки и записки со словами “Я тебя люблю”.
“Отчасти, процентов на двадцать пять, это случилось потому, что я была мачехой его детям, – сказала Эми, пытаясь объяснить внезапное желание ее бывшего мужа уйти к другой. – Я не была в восторге от его дочек, но мы с ними ладили. Я просто дружила с ними, но не пыталась заменить им маму. Правда, младшая начала выводить меня из себя, так что, наверное, в последние полгода я тоже была далеко не ангелом”. Однако более глубокая причина – остальные 75 % – заключалась, по ее мнению, в том, что ее муж просто подпал под чары более молодой азиатки: именно это искушение играло роль роковой отмели, о которую уже разбилось множество западных браков в Сингапуре, Бангкоке и Пекине. “А еще дело в процессе старения, – продолжала Эми. – У нас, у западных людей, с возрастом полнеют бедра, у мужчин отрастают животы. И вот когда мы, уже немолодые, приезжаем в Азию – а мир здесь мужской, – то западную толстушку ничего не ждет, зато за западным толстяком, который хлещет пиво, будет обязательно увиваться куча женщин. У него вдруг появился выбор. Мы, западные женщины, более полные, чем азиатки, у нас сильнее грудь отвисает. Азиатки стареют более изящно, да и западным мужчинам нравятся миниатюрные женщины, и с этим ничего не поделаешь”.
Этот разрыв оказался очень горьким для Эми, хотя через некоторое время она эмоционально восстановилась (ее поддерживали подруги) и даже нашла работу, получила разрешение на длительное пребывание и осталась в Сингапуре. Эми знала, что случившееся с ней уже случалось с очень многими западными женщинами, приехавшими в Азию вместе с мужьями, но горечь от разрыва не ослабевала. Неприукрашенная истина состояла, по-видимому, в том, что те исторические и культурные обстоятельства, которые дают преимущества европейским и американским мужчинам в странах вроде Китая и Сингапура (где главным образом завязываются сексуальные отношения, не подразумевающие платы), создают неблагоприятные условия для западных женщин: многим из них, если они одиноки, бывает трудно найти партнера. Стандартная ситуация в подобных случаях – а это и случай Эми – такова: если между азиатками и западными мужчинами часто возникает сильное взаимное притяжение, то такое гораздо реже происходит между азиатами и западными женщинами. По крайней мере, это она знает по своему опыту и по наблюдениям, сделанным за шесть лет жизни в Сингапуре: “Сейчас вот что происходит: многие сингапурки стараются найти себе анг-мо – так здесь называют иностранцев, – и за этим стоит ряд причин. Антропологи говорят, что женщин тянет к мужчинам, которые выше их по статусу. А вот я думаю, что многие сингапурки просто думают: “Вот еще – пресмыкаться перед свекровью!” – и им есть из чего выбирать. А сингапурцы тем временем женятся на вьетнамках и китаянках”.
Под пресмыкательством перед свекровью Эми имела в виду целый ряд традиционных ожиданий, которые окружают азиатских женщин, и стойкое, хотя и идущее на убыль, представление о том, что они в долгу перед семьей мужа. Но почему анг-мо наделены более высоким статусом, да еще в такой передовой стране, как современный Сингапур, где много богачей среди местных мужчин? “Мне кажется, отчасти потому, что все связанное с западной культурой кажется азиатам более привлекательным, особенно в Сингапуре, – сказала Эми. – Американская и вообще западная культура до сих пор обладает некоей жизненной энергией, которая представляется волнующей и сексуальной. А еще многим кажется, что у западных мужчин больше денег, хотя это далеко не всегда так. Наша культура крутая, и это классно! И западным мужчинам вечно достаются лучшие куски”.
Но почему же этот культурный отблеск не дает аналогичных результатов для западных женщин? Разве живущим в Сингапуре свободным западным женщинам из числа знакомых Эми не хотелось бы встречаться с азиатскими мужчинами? “Конечно, хотелось бы, но китайцы нас побаиваются, – ответила на это Эми. (В многонациональном Сингапуре китайцы составляют 90 % всего мужского населения.) – Обычно мы крупнее их. Как-то я говорила на эту тему с одним китайцем – агентом по недвижимости, который помогал мне найти жилье. Я спросила его: как это объяснить? И он сказал: “Мы вас немножко побаиваемся”. Тогда я спросила почему. И он ответил: “Вы, западные женщины, очень уж экспрессивны. Вы прямо, без обиняков, высказываете свое мнение, особенно американки”.
Иначе говоря, западные женщины, воспитанные в духе равенства, свободы слова и самовыражения, пугают своими манерами многих азиатских мужчин, которые привыкли к более тихим и скромным женщинам. Я знаю, что такая точка зрения близка к области возникновения культурных стереотипов, особенно к распространенному стереотипу, рисующему образы “более мужественной” американки и “более женственного”, более мягкого азиатского мужчины, а такие стереотипы, безусловно, искажают куда более сложную истинную картину, где есть место самым разным вариантам. Кроме того, большинство западных мужчин не бросают своих западных жен, когда они вдвоем переезжают в Азию, да и многие незамужние западные женщины превосходно устраивают свою личную жизнь в Азии.
Но Эми говорит, что знает многих западных женщин, у которых как раз не ладится личная жизнь, и объясняется это отчасти различиями между американцами и азиатами. Сама она энергична, непочтительна, чуточку развязна и грубовата. Она обладает чувством юмора и какой-то словоохотливой, порой приземленной прямотой. Она не чурается непристойностей, если ей хочется ввернуть словцо покрепче. Она говорит то, что думает, и не стесняется этого. “У меня есть проблема, не буду скрывать, – сказала она, – а многим китайцам такое не по зубам. Они ищут женщин более скромных, покладистых, поэтому то, что я с Запада, из Нью-Йорка, что мне пятьдесят два года, – это очки совсем не в мою пользу. И я не привыкла говорить мужчине “да” просто потому, что он ожидает услышать “да”.
Излишне проникаться к ней сочувствием. У нее хорошая работа в Сингапуре – должность заведующей учебным планом и управляющей в частной школе с преподаванием на английском языке, и ей нравится этот город. Срок ее контракта истекает в 2009 году, и она вовсе не уверена, что после этого вернется в США. Она немного напоминает тех пожилых западных мужчин, осевших в Азии, которым необходим яркий, насыщенный, богатый стимулами фон для жизни, и по сравнению с этой яркостью жизнь на родине кажется им пресной и скучной. Незадолго до моего разговора с Эми она провела выходные в Лаосе, съездила на автобусе в Луанг-Прабанг и Вьентьян. А еще она планировала более долгую, дня на четыре, поездку на Пенанг – остров вблизи западного побережья Малайзии, куда собиралась поехать вместе с индийцем, с которым недавно начала встречаться. Может быть, они остановятся в “Восточно-западном отеле” – старинной гостинице колониальной эпохи, сохранившей очарование ретро. Наверное, они исследуют зловещие пределы Змеиного храма, совершат прогулку под парусом по Андаманскому морю.
По поводу индийцев Эми сказала, что они, в отличие от более робких китайцев, проявляют куда больше интереса к западным женщинам. Человек, с которым Эми встречается сейчас, – не первый индиец, с которым у нее завязываются отношения. “Индийские мужчины привлекательны, – сказала она, – и они гораздо лучше понимают словесную игру, шутки”.
Эми не единственная женщина, для которой Азия оказалась серьезным испытанием в сфере межличностных отношений. В каком-то смысле ее случай отражает общую статистику или, говоря точнее, некую мнимую статистику, потому что неизвестно, проводил ли кто-нибудь исследования в этой области. Однако несистематические наблюдения явно указывают на то, что на каждые десять (приблизительно) пар, составленных из западного мужчины и азиатки, приходится в лучшем случае одна или две пары, составленные из западной женщины и мужчины-азиата.
Западные мужчины, едущие в Азию, уже являют собой некую “самоизбранную” группу. Далеко не все они оказываются там потому, что хотят иметь подруг-азиаток и не желают ограничивать себя обязательствами перед кем-либо еще, однако многими, конечно же, движут именно такие мотивы.
“Я изредка заходила на один веб-сайт, где знакомятся сингапурцы и выходцы с Запада, – рассказывала Эми. – Я познакомилась с несколькими западными мужчинами, но это ни разу ни к чему не привело, и они никогда даже не объясняли почему, хотя на веб-сайтах западные мужчины часто говорят, что ищут именно азиаток. Вот кто им интересен”.
Напротив, западные женщины-специалисты, которые приезжают работать в Азию, редко движимы какой-то особой тягой к азиатским мужчинам, которые, впрочем, так или иначе – и по причинам, которые приводила Эми, – часто не считаются идеальными партнерами. Поэтому если симпатичные девушки независимо от цвета кожи и вероисповедания обычно везде пользуются успехом, то, сделавшись немного старше, западные женщины в Азии сталкиваются с трудностями при попытках найти партнеров для романтических и сексуальных отношений. “На вид мне можно дать сорок два, – говорила Эми. – И кожа у меня хорошая. Роскошной женщиной меня не назовешь, но выгляжу я неплохо. На днях я познакомилась в суши-баре с одним западным мужчиной: такой толстяк, на вид ему уже за семьдесят. Я поняла, что он не прочь со мной переспать, но с ним бы я ни за что: слишком стар для меня. Возраст да еще такое брюхо в придачу – вот что меня сразу оттолкнуло”.
Разумеется, для женщин в Сингапуре и в других городах Азии не существует заведений, аналогичных тем, которые существуют для мужчин, – заведений, где можно было бы скрасить часы одиночества. Эми не может пойти в бар и подыскать себе мужчину вдвое моложе ее для coup (“секса на одну ночь”, как назвал бы это Флобер) в гостинице с почасовой оплатой или поселить его у себя на несколько недель или месяцев, а потом, когда ей вздумается заменить его на нового молодого человека, расстаться с ним, подарив в утешение мотоцикл. А если бы даже у нее имелась подобная возможность, едва ли она доставила бы ей радость. Она стремится не к этому. Она хочет наслаждаться сингапурской жизнью во всей ее полноте, а еще мечтает достичь мудрости в примирении с самой собой. “Вот что я вам скажу: чем старше становлюсь, тем больше теряю терпение. Я уже не могу выслушивать всякую чушь, – сказала Эми. – Я знаю, что у меня язык без костей. Люди говорят, что я слишком язвительна, что я слишком сильная личность, а я говорю: “Извините, но уж какая есть”.
Глава 12
С мыслями о Нане, или Нои, или Ам
Это было в пятницу, в июле 2007 года. Я сидел вместе с Питом, бывшим пилотом “Эйр-Америки”, в баре “Мадрид” – бангкокском питейном заведении, со времен вьетнамской войны пользовавшемся успехом у иностранцев. После войны Пит вернулся в США, а потом несколько лет работал летчиком в Судане. В то время он был женат на тайке, но потом они развелись, прежде всего из-за того, что ей очень не нравилось жить в Судане. Уволившись, он вернулся в Бангкок и женился на младшей сестре своей первой жены. Именно в ходе этого долгого интервью в баре “Мадрид” Пит сообщил мне о бытовавшем во Вьентьяне обычае дарить девушкам мотоцикл при расставании. Мы долго разговаривали, сидя на полукруглой скамейке за небольшим столиком, и пили минеральную воду (чего-нибудь покрепче нам не хотелось – вечер еще не наступил). А потом, когда наша беседа уже подходила к концу, произошла одна сценка, наглядно демонстрировавшая всегдашнее стойкое, неодолимое влечение западных мужчин к Азии и азиаткам.
Вдруг появилась и села рядом с Питом необычайно хорошенькая девушка, одетая в простую блузку и джинсы. У нее были красивые черты лица и гладкая кожа, а волосы изящно ниспадали на плечо. Они с Питом поздоровались как старые друзья. “У нее только что родились близнецы, – сообщил мне Пит, когда молодая красавица ненадолго отлучилась. – Ей двадцать два года”. “А кто отец близнецов?” – спросил я, недоумевая: неужели сам Пит? “Ее бойфренд, таец”, – ответил Пит, прояснив ситуацию и одновременно усложнив загадку. Если у нее есть бойфренд-таец, если она мать новорожденных близнецов, то что она делает здесь, в баре “Мадрид”, и почему склоняет голову на плечо Пита? Ответ, разумеется, прост: ей нужны деньги, и зарабатывает она их в баре “Мадрид”, а ее бойфренд, с которым она не связана брачными отношениями, не возражает. Пит тоже не возражает. “Тогда еще один вопрос, – сказал я. Неожиданное появление его, по-видимому, любовницы – миа-нои, или “маленькой жены”, как обычно называют любовниц в Таиланде, – вызвало у меня желание узнать кое-какие подробности, раньше казавшиеся несущественными. – В каком году вы родились?” “В 1934-м, – ответил Пит и, поняв, куда я клоню, уточнил: – Мне семьдесят три года”.
Пит держит себя в форме. Он не из тех, у кого тонкие ноги и огромное брюхо, нависающее над поясом, как мешок риса, хотя в Бангкоке полно именно таких типов – одутловатых стариков, сидящих по барам и кафе с юными тайками. Пит – элегантный мужчина среднего роста, у него безупречная внешность самого обыкновенного человека, хотя жизнь его нельзя назвать самой обыкновенной. Он видел войну и смерть, он рисковал жизнью, он подолгу жил в Африке и Азии. Он превосходный образчик определенного человеческого типа, того типа американцев, для которых первое приключение за границей произошло в Юго-Восточной Азии во время вьетнамской войны. Это тип людей, которые никак не могут вернуться домой.
Потому что, в конце концов, что бы он делал дома в возрасте семидесяти трех лет? Пил бы пиво и смотрел сериал “Клан Сопрано”? Ходил бы на церковные посиделки вместе с супружескими парами своего возраста? Пристрастился бы к боулингу, играл бы в команде? Сделался бы завсегдатаем местного кабачка, говорил бы о внуках и ходил на их дни рождения? Разумеется, он бы мог заниматься всем этим, и многие стареющие мужчины находят такие занятия приятным и осмысленным времяпрепровождением и не испытывают ни малейшего желания жить где-нибудь в чужой стране, далеко от родины. Они предпочитают жить дома, с женами, с которыми прожили уже много десятилетий. С годами их любовь изменилась, стала глубже, крепче и нужнее, чем когда-либо раньше. Большинство мужчин – в том числе и большинство ветеранов Вьетнама, – отличаются от Пита и от его “однополчан”, неспособных вернуться домой, – от тех, кто цепляется за приключения далекой молодости, несмотря на седину и выросший живот, кто пьет сверх меры и проводит время в бедных чувствами и основанных на корысти связях с девушками втрое их моложе. Многим мужчинам, как и многим женщинам, удается стареть мудро, и их вполне устраивает жизнь, посвященная внукам, рыбалке, чтению и просмотру видеофильмов у себя дома: казалось бы, чего еще можно пожелать для достойного преклонного возраста! Кроме того, не всем мужчинам двадцатидвухлетняя подружка Пита показалась бы привлекательнее женщин у них на родине. Некоторые мужчины испытывают мощную внутреннюю тягу к азиатским женщинам и готовы петь дифирамбы их неотразимой прелести, однако далеко не все разделяют такие предпочтения. И даже среди тех мужчин, кто разделяет эту страсть, многих бы оттолкнул неизбывно порочный флер бангкокского рынка продажной любви, его неистребимая атмосфера подросткового гедонизма.
Но, когда смазливая подружка Пита оказывает ему нежные знаки внимания, родина кажется ему страной с каким-то выхолощенным, ограниченным, полным запретов жизненным укладом. Для людей вроде него бурлящий и кипящий водоворот Бангкока и подобных ему мест сделался просто жизненно необходимой стихией.
“Мадрид” расположен в районе Патпонг – наверное, самом знаменитом в мире районе с развлекательно-сексуальными заведениями. Темнело, и приготовления к ночной жизни шли полным ходом. Уличные торговцы поддельными часами “Ролекс” и поддельными бумажниками “Фенди”, шелковыми пижамами, DVD, бумажными фонариками, жасминовыми гирляндами, швейцарскими армейскими ножами, выпущенными правительством Таиланда лотерейными билетами с изображениями слонов, а также многими другими товарами, устанавливали длинные дощатые столы. Футболки, выложенные на продажу в торговых ларьках, свидетельствовали о репутации Патпонга: на них красовались надписи вроде “Шлюха из пиццерии” или “Нет налички – нет клубнички”. На одной майке написано “Я просто сделал это!” – пародия на лозунг фирмы “Найк”. Над торговыми рядами натягиваются желтые брезентовые навесы, чтобы защитить продавцов от муссонных дождей, которые часто проливаются вечером, не говоря уж о помете, который роняют стаи черных скворцов, без предупреждения пролетающих над головой. Уже съехались, слезли с задних сидений мототакси знаменитые бангкокские девушки из баров – некоторые совсем юные и свежие, другие погрубее, с виду – заматерелые “ветеранки”. Некоторые уже сидели перед барами “гоу-гоу” в ожидании ночи. Другие – на самом деле трудно сказать, кто именно из них, – были вовсе не девушками, а катоэи – транссексуалами, которыми знаменит Таиланд. И юноши и девушки ели из мисок лапшу с красным перцем и свежей мятой, ожидая, когда откроются для работы их ночные заведения. Иностранцы сидели в уличных барах, пили пиво и с напускной непринужденностью разглядывали открывшуюся перед ними картину.
В последние годы Патпонг уже стал несколько dépassée – устаревшим. Ценители вроде Пита и его друзей наведываются туда ради “Мадрида”, сохранившего дух старомодной подлинности, но в основном туда приходят туристы, посещающие бары “гоу-гоу” на противоположной стороне улицы или освещенную неоновыми огнями узкую улочку, известную как Патпонг-2. Зазывалы показывают фотографии девушек из массажных салонов – тела, покрытые мыльными пузырьками. Заинтересовавшихся они отводят в безвкусные мишурные заведения на втором уровне Патпонга, где расположены бары, специализирующиеся на цирковых шоу с сексуальными фокусами (там девушки выпускают из влагалищ сигаретный дым, играют с мячиками для пинг-понга и бритвенными лезвиями). Но бывалые посетители Бангкока избегают Патпонга. Они предпочитают другие места в Бангкоке – например, “Ковбой Сои” или “Нана Плаза” на улице Сукхумвит. Эти заведения, конечно, не назовешь изысканными или скромными, но там чуть-чуть меньше сутолоки, там можно спокойно посидеть и оглядеться, и при этом никто не будет каждую минуту клянчить у тебя выпивку.
Патпонг – довольно уродливое место: длинная вереница баров с названиями вроде “Сафари”, “Суперкиска”, “Бар “Ляжки”, “Королевский замок”. Там есть и дешевые гостиницы с почасовой оплатой, закусочные, пивные стойки под открытым небом, рестораны, а также обыкновенные торговые точки – аптеки, меняльные лавки, турагентства, тату-салоны, парочка дежурных супермаркетов “Севен-Элевен”. Есть такая вывеска:
Девушки “Гоу-гоу”
Горячие перчинки
Для любителей
В северной части висит транспарант, рекламирующий питьевую воду “Чанг”. В окнах с цветными стеклами мерцают неоновые огни, призывающие покупать пиво “Тигр”. При всей своей кричащей пошлости и мишурности Патпонг тем не менее намекает на нечто роскошное и экзотическое. А вокруг шумит и гудит Бангкок, слышен рев мотоциклов и гул потока машин с улицы Силом, отдыхают на своих трехколесных велорикшах водители, поджидают доверчивых туристов попрошайки, спешат домой школьницы в черно-белой форме, робкие на вид, в противоположность девушкам из баров. (Впрочем, я слышал от людей, будто бы видевших это собственными глазами, что поблизости есть комнаты, где некоторые из этих школьниц переодеваются во взрослую одежду, работают несколько часов в барах или массажных салонах, а потом снова переодеваются в школьную форму и идут домой.)
В теплом, влажном, тяжелом июльском воздухе колышутся листья акаций на улице Силом. Это задул первый вечерний ветерок, который обычно предшествует ливню. Неподалеку уличные торговцы разложили свой товар: жареных кальмаров или курицу на шампурах, арахис и кусочки лайма, завернутые в зеленые листья бетеля, суп с лапшой, ломтики манго, кусочки помело, рамбутана, мангустина, маракуйи, мисочки с кокосовым соусом. В воздухе носятся запахи стручкового красного перца, жарящегося в растительном масле, рыбы, листьев мяты. Это зрелище бурлящего, стихийного ночного базара кажется какой-то первобытной фантасмагорией. Здесь, в узком переулке, хаотичная, беспорядочная уличная жизнь Азии сосуществует бок о бок с позолоченными, изобилующими зеркалами торговыми центрами эротических развлечений, словно и то и другое просто голограммы, спроецированные на одну и ту же плоскость, но не имеющие между собой ничего общего. Патпонг – место одновременно отталкивающее и завораживающее, где царят блеск и нищета. Здесь, зацепившись взглядом за одноногого нищего, сидящего на разбитом тротуаре, можно увидеть сквозь полураскрытые двери обнаженных девушек, танцующих на зеркальном полу и завлекающих тебя, будто сирены.
Но вернемся к Питу. Уже приготовившись уходить, он поглядел на меня своими мудрыми глазами. “Можете сами вычислить, – он смотрел на меня спокойно, без малейшего смущения. Он уже сделал выбор и не видит причины стыдиться этого. – Она на пятьдесят один год моложе меня. Как вы думаете, нашел бы я себе такую девушку где-нибудь в Пенсильвании?”
Пит – один из тысяч тех крепких и энергичных стариков (большинство из них тоже соприкоснулись с Таиландом в годы вьетнамской войны), которые, пожалуй, иллюстрируют собой последнюю стадию долгой истории эротических приключений Запада на Востоке. Они живут в Таиланде не только для связей с тайскими женщинами, хотя хорошо знакомы с, так сказать, тайской культурой “девушек из бара”, которую обсуждают с каким-то житейским добродушием. Они живут в Таиланде потому, что там всегда тепло, можно дешево снять жилье, там пляжи, вкусная еда, яркие краски местной жизни, а еще, что немаловажно, там есть общество людей со схожим опытом, восходящим еще к временам вьетнамской войны. Для некоторых из них жизнь на родине представляется томительной скукой, лишенной всяких событий, многим кажется, что они туда просто не впишутся.
“Если б я вернулся в Канзас, с кем бы я там виделся?” – спрашивал другой ветеран, Джим Оден, глава таиландского отделения организации “Ветераны американских зарубежных войн” (в 2007 году в ней состоял 961 человек). Оставив военную службу, он поступил в “Северо-Западные авиалинии” и сделал хорошую карьеру. Я познакомился с Оденом в кофейне при гостинице “Федерал” в Бангкоке, а заодно еще с несколькими людьми, чья первая встреча с Юго-Восточной Азией произошла во время вьетнамской войны. Джим – исполненный собственного достоинства, вдумчивый, покровительственно держащийся мужчина, типичный солидный горожанин – человек из тех, к кому инстинктивно обратишься за помощью в трудную минуту. Вместе с бывшей женой он воспитал девятерых детей, из них пятеро приемные. “Самый способный из моих одноклассников стал зубным врачом”, – сказал он, желая проиллюстрировать разницу между жизнью “здесь” и “там”. Дело не в том, что он презирает зубных врачей, а в том, что участь зубного врача представляется ему слишком уж скучной. “Там мир вот такой величины”, – пояснил Оден, сводя вместе свои крупные ладони, чтобы показать узость той жизни, которая ждала бы его, пенсионера, в США.
Компания, собравшаяся за столом (тут и Пит, и еще несколько ветеранов Вьетнама), единодушно сходится в том, что вьетнамская война стала эпохой сексуального пробуждения для многих молодых американцев, которые приехали из пуританской глубинки, где секс считался запретным удовольствием, и неожиданно открыли для себя не скованную понятием вины эротическую свободу Юго-Восточной Азии. Или, во всяком случае, ту свободу, что демонстрировали встречавшиеся им женщины.
“У нас в старших классах был секс, – вспоминал Оден свой родной город, расположенный в штате Канзас. – Были и купания нагишом. Но все происходило в темноте. Девушки не хотели, чтобы ты видел их обнаженными. А азиатки гордились своим телом. – и, переключившись на тему бангкокской жизни несколько десятилетий спустя, продолжил: – Тайки и вьетнамки – это совершенно другой женский тип. А еще им плевать на разницу в возрасте. Здесь не считается позором, если девушку увидят с мужчиной в летах. Они сами понимают, что многие молодые люди не способны позаботиться о них как следует”.
Большинство мужчин, сидевших тогда за столом в гостинице “Федерал”, были женаты на тайках – для некоторых это был уже второй или третий брак (на первых своих женах, американках, они женились несколько десятков лет назад). И все говорили примерно одно и то же: для людей вроде них то, что легко в Таиланде – а именно найти охотно идущих на контакт женщин намного моложе их самих, – было бы невозможно на родине. Я познакомился с одним бывшим джи-ай, очень тучным, в Паттайе – пляжном курорте к югу от Бангкока, где поселилось довольно много бывших джи-ай, так что они образовали заметный филиал “Ветеранов американских войн” и регулярно собираются в баре, принадлежащем главе местной секции Эрику Ларсену. “Я прилетел в лос-анджелесский аэропорт, – рассказывал мне этот человек о своей поездке в США несколько лет назад. – Я собирался повидаться с детьми. И меня занесло в бар в аэропорту. А там сидели какие-то мужики и разговаривали о газонокосилках, о новом гараже. Это же надо – о газонокосилках! “Ой, – подумал я тогда, – надо поскорее убираться отсюда на фиг”.
“Счастье, – добавил он, – это когда тебе хватает денег, чтобы три раза в месяц проводить время с красивыми тайскими девушками”.
Все они соглашаются с тем, что Таиланд – лучшее место на земле. Это страна, где в современной обстановке наиболее активно осуществляется соприкосновение сексуальной культуры христианского Запада с гаремной культурой остального мира. А еще это страна, где обычаи прошлого подверглись наибольшей вульгаризации, коммерциализации и глобализации. В начале XIX века солдаты Ост-Индской компании быстро узнали о лал-базарах и о том, чем там можно заниматься. Но лал-базары были исконными местными заведениями, об их существовании знали на родине, в Британии, однако знали так же, как о турецком гареме: благодаря слухам, письменным рассказам и в некоторой степени – политическим дебатам о предполагаемой сексуальной аморальности империи. Сегодня все иначе: достаточно зайти на определенные сайты, сидя где-нибудь в Бостоне или Берлине, и увидеть фотографии женщин из баров, которых по прибытии в Таиланд можно пригласить к себе в гостиницу с почасовой оплатой. Можно ознакомиться с блогами иностранцев, информирующими о заведениях с сексуальными услугами: какие бары лучшие, где самые красивые девушки, чем отличается массаж с горячим маслом от мыльного массажа, как отличить трансвестита от настоящей девушки и сколько примерно должно стоить свидание с ним или с ней. Существуют десятки интернет-форумов, где туристы-мужчины описывают свои сексуальные похождения и обмениваются мнениями о достоинствах того или иного места, причем их обзоры касаются многих стран мира.
Все это, конечно, адресовано секс-туристам, для которых Таиланд – настоящая эротическая Мекка, но люди вроде завсегдатая бара Эрика Ларсена, ветерана Вьетнама и отставного полицейского детектива из Сан-Франциско, отнюдь не туристы. Все они по-своему честные, надежные, основательные люди, которые могли бы вести солидную, респектабельную жизнь у себя на родине, если бы только захотели. Однако они сделали выбор в пользу Таиланда. “Подавляющее большинство из нас живет здесь из финансовых соображений, – сказал однажды Ларсен, сидя за столиком в заведении, которое он держит на окраинной улице Паттайи. – Здесь можно с комфортом жить на одну только ренту от сдачи дома у меня в Сан-Диего. Мне просто не по карману было выходить на пенсию в Сан-Диего”.
Этот бар, рассказывал Ларсен, возник поначалу в качестве хобби и вечно оставался в убытке вплоть до недавнего времени, когда Эрик решил сделать доступной для своих клиентов – по большей части ветеранов, как и он сам, – ту услугу, за которую регулярно и охотно расплачивается большинство мужчин в Паттайе.
“Я нанял трех девушек, обустроил на верхнем этаже несколько комнаток, и с той поры дела пошли в гору”, – рассказал он. Первая девушка была подругой его жены-тайки. Других удалось найти благодаря связям в тайском “полусвете” – Паттайя кишит такими девушками. По прикидкам Ларсена, там имеется около восьмидесяти крупных заведений типа “гоу-гоу” с десятками девушек при каждом и еще тысячи четыре алкогольных баров поменьше, и в каждом можно воспользоваться услугами, наверное, десятка девушек. “Они тут живут, я забочусь о них, – сказал он о женщинах, обслуживающих клиентов его бара. – Это вполне безопасное предприятие, ведь я лично знаю всех, с кем они уходят”. “А мужчины?” – спросил я. Неужели они все – потенциальные клиенты, не только подтянутые, поджарые, но и пузатые, неповоротливые? Или, может быть, я переоцениваю важность сексуальной составляющей жизни в Паттайе? “Скорее всего, они тут из-за девушек, – ответил Ларсен, – потому что вряд ли они стали бы жить в Паттайе, если бы речь шла только о деньгах: где-нибудь в глуши они бы тратили меньше, чем здесь”.
В сфере легкодоступного секса с Таиландом соперничает еще несколько стран – например, Филиппины и Камбоджа. На Филиппинах, как и в Таиланде, заметно и мощно дает о себе знать сексуальное наследие Индокитая. Многие американцы, в том числе бывшие джи-ай, живут сейчас в Анхелесе, вблизи бывшей Кларк-Филдской военно-воздушной базы, где бары и клубы, некогда обслуживавшие американских солдат, продолжали работать и после закрытия базы в 1991 году. (Территория, которую она занимала, в настоящее время является особой экономической зоной под управлением правительства Филиппин.) Я не бывал в Камбодже, но наслышан о том, что там сексуальный сектор услуг носит еще более стихийный характер, чем в Таиланде. А многочисленные репортажи в прессе и расследования, проводимые неправительственными огранизациями, изобличают Филиппины и Камбоджу как очаги незаконной экспуатации несовершеннолетних мальчиков и девочек местными криминальными бандами, а также как рай для педофилов с Запада.
Рассказывают, что в Анхелесе (где я тоже никогда не бывал) процветает и обыкновенная проституция, затрагивающая взрослых женщин и мужчин, а еще рассказывают, что женщины там услужливы, цены невысоки, а правительственные предписания практически не действуют, хотя на Филиппинах, как и в Таиланде, проституция официально запрещена. Можно связаться по интернету с турагентством, которое организует полный пакет туристических услуг в Анхелесе: туда включены авиабилеты, оплата гостиницы и женщины. “Секс ради развлечения – превосходный вид спорта, – уверял потенциальных клиентов один веб-сайт, по сведениям статьи из “Тайма”. – Вы сможете побыть героем-любовником независимо от возраста, веса, физических данных, навыков межличностного общения, финансового или социального положения”. Риск и разочарование исключены, удовлетворение обеспечено, и не стоит тревожиться, что ваши шансы уменьшатся из-за недостатка обаяния, внешней привлекательности или чистоплотности. Американцам, немцам или японцам, которые просиживали бы всю ночь напролет в барах для холостяков и уходили бы несолоно хлебавши, в Анхелесе или в Патпонге обеспечено внимание надушенных юных созданий”. В ту пору, когда вышел номер “Тайма” со статьей, агенства для секс-туристов предлагали двухнедельный “отдых” в Анхелесе за тысячу семьсот долларов.
Огласка, которую получила деятельность педофильских банд в местах вроде Анхелеса или Камбоджи, будто бы привела к некоторому улучшению обстановки в этих странах. По крайней мере, возрос риск преследования для мужчин, путешествующих по миру в поисках секса с малолетними, и нескольких таких “путешественников” даже упекли за решетку во Вьетнаме, Камбодже, на Филиппинах и в Таиланде. И все равно там ведется бойкая торговля телами несовершеннолетних мальчиков и девочек, которых держат пленниками в борделях Бангкока, Манилы и т. д. Многие из клиентов этих детей – местные жители. Тем не менее эта полуночная сторона глобализации секса наглядно показывает, что Азия продолжает предлагать западным людям такие сексуальные возможности, доступ к которым у них на родине получить гораздо труднее. Впрочем, педофилия не имеет никакого отношения к гаремной культуре. Она является лишь порождением крайней нищеты, коррумпированности полиции, политического бездействия и обоюдного желания содержателей борделей и их клиентов заниматься организацией и оплатой сексуальной эксплуатации детей.
И это никак не связано с жизнью и деятельностью тысяч американцев и других выходцев с Запада, которые обосновались в Таиланде и стараются быть респектабельными местными гражданами. Все отделения организации “Ветераны американских войн”, а их в Таиланде несколько: в Накхонратчасиме (Корат), Паттайе, Удонтхани и Бангкоке, то есть в тех местах, где расквартировывались американские солдаты в годы вьетнамской войны, – собирают средства для местных нужд, например на покупку школьной формы для тех детей, чьим семьям это не по карману, или на реставрацию местного буддийского храма. А еще ветераны заботятся друг о друге, когда кто-нибудь из них болеет или умирает. Иными словами, это община единомышленников, хотя, что охотно признает Ларсен, мы бы впали в сентиментальное заблуждение, если бы сочли, что при выборе здешних мест для проживания эти люди не руководствовались в большой степени доступностью секса особого рода, который оставался бы у них на родине недостижимой мечтой.
“Просто поразительно, насколько быстро привыкаешь к тому, что тут можно заполучить женщину по вызову круглые сутки и семь дней в неделю”, – сказал Ларсен. И все же он упоминает о некоторых особенностях здешней доморощенной гаремной культуры, которые стараются учитывать и осмотрительные американцы: тайцы придерживаются негласных правил в общении с проститутками – например, никогда не посещать проститутку в собственном районе и (самое главное) никогда не влюбляться в проститутку. Люди вроде Ларсена исповедуют основанные на житейской мудрости, нарочито неромантичные взгляды на отношения между западными мужчинами и тайскими женщинами, которые, по их словам, умеют выглядеть очень ласковыми и нежными созданиями, на деле же пускают в ход целый арсенал уловок для того, чтобы разлучить мужчин – в самом деле очень ласковых и нежных – с их деньгами. Сколько раз бывало так, что фаранг – этим тайским словом, образованным от английского foreigner, называют себя сами иностранцы – влюблялся в тайку, а потом обнаруживал, что на него навалилось неожиданное тяжкое бремя: постоянные требования денег для родни его любимой, а потом, если он оказывал сопротивление, прекращал давать деньги или пытался смыться, и угрозы для жизни.
Случаются очень неприятные истории. Я слышал из надежного источника об одном иностранце, который выплачивал столько денег своей якобы верной подруге, девушке из бара, что ее настоящий бойфренд (на тридцать лет моложе, чем этот фаранг) бросил работу и они оба зажили припеваючи на средства околпаченного иностранца, впридачу глумясь над его щедростью. А еще мне известна история бельгийца, с которым я познакомился в Паттайе: жена-тайка разводилась с ним и собиралась забрать себе пятикомнатный дом, купленный им (потому что согласно тайским законам дом приобретался на ее имя), а также изрядную часть его сбережений, которые она прибрала к рукам, украв его банковскую карточку. “Она хочет все у меня отнять!” – говорил бельгиец, качая головой, словно не в силах поверить в такую жадность женщины, которая когда-то соблазнила его кажущейся хрупкостьью и ранимостью. Неудивительно, что, как уже говорилось ранее, девушки из баров называют на своем сленге иностранцев “ходячими банкоматами”. Бельгиец оценил свои материальные потери в пять миллионов батов, почти сто семьдесят тысяч долларов.
Даже если отвлечься от этих опасностей, многим мужчинам (пожалуй, большинству) паттайские бары “гоу-гоу” показались бы скорее отталкивающими, нежели соблазнительными. “Все это очень быстро приедается”, – сказал об обстановке баров один давний житель Бангкока, вот уже тридцать лет счастливо женатый на местной уроженке, и можно не сомневаться, что многим мужчинам это тоже очень быстро приедается. Мои собственные ощущения во время посещения нескольких таких баров можно описать как смесь зачарованности, возбуждения и отвращения. Оказаться перед голыми девушками, танцующими на приподнятой платформе, значит неизбежно ощутить искушение. Когда в 2007 году я зашел в один бар “гоу-гоу” в Паттайе вместе с несколькими американскими ветеранами, бывший морской пехотинец воскликнул, словно не веря собственной удаче: “Можно же поиметь любую из этих девиц – какую захочешь!”
В самом деле, время от времени перед тобой вдруг возникает поистине обворожительное создание, как будто не похожее на остальных, чуточку более изящное, более стильное, более утонченное, нежное, и, когда это происходит (пускай даже женщина окажется куда менее обворожительной в беспощадном утреннем свете, чем тебе показалось в обманчивом и чувственном ночном освещении), почти невозможно не ощутить какого-то пьянящего притяжения. “Внезапно, – писал в романе “Бангкок-8” Джон Бердетт, – возвращение в гостиницу в одиночестве кажется более пугающим и даже более аморальным поступком, будто преступлением против самой жизни, чем общение с проституткой”. И все-таки чаще всего тайский бар “гоу-гоу” – это очень пошлое и безвкусное заведение и, разумеется, самое неподходящее место для завязывания глубоких, серьезных отношений с представительницей противоположного пола.
Как сказал мне друг много лет назад, существует два типа мужчин: одни проделывают одно и то же с сотней разных женщин, а другие – сотни разных вещей с одной женщиной. Бары “гоу-гоу”, безусловно, созданы для мужчин первого типа. Пожилые мужчины, которые воротят нос от пожилых женщин у себя на родине и делают выбор в пользу Таиланда, обеспечивающего им удовольствия, могут наслаждаться “сексом по требованию”, и для многих этого более чем достаточно. Вспоминается знаменитое высказывание Вуди Аллена про секс без любви – что это бессмысленный опыт, однако чертовски классный для бессмысленного опыта. Впрочем, другим мужчинам жизнь с девушкой из бара показалась бы чересчур пустой. Как мы еще увидим, бывают исключения, но мало кто из таких девушек способен утешить, поддержать или стать спутницей, единомышленницей, с которой можно было бы наслаждаться тем спокойным и медленным накоплением опыта, что и составляет суть совместной жизни при подлинно близких отношениях. Иными словами, мало кто из них способен оказаться достойной, цельной, душевно отзывчивой и умственно вдохновляющей женщиной, какую обычно стремятся обрести в лице любящей спутницы жизни. А потому благоразумные мужчины обуздывают свои надежды.
“Если вам нужна сногсшибательная красотка, то таких тут можно найти, – сказал Ларсен. – Но только пусть ваше увлечение продлится не дольше сорока пяти минут, что вы проведете с ней вдвоем на верхнем этаже”.
Однажды вечером, в 2007 году, в Бангкоке я отправился вместе с Дином Барреттом, еще одним бангкокским резидентом с большим стажем, автором нескольких романов и других книг об Азии, в заведение “Энджел-Уитч” (“Ведьма-Ангел”). Это бар, расположенный в “Нана Плаза” – трехэтажном сексуально-развлекательном комплексе, одном из тех мест, куда ходят иностранцы в поисках тайских девушек (или юношей, похожих на девушек). Женщины танцуют на приподнятой сцене, держась за прикрепленные к полу и потолку металлические шесты, стоя на вращающихся дисках, так что клиенты могут хорошо рассмотреть каждую из них по очереди.
По большей части они стройны, многие очень хороши собой. Большинству мужчин приходятся по вкусу женщины в заведениях, куда одни приходят ради других, а бо́льшая доступность сексуальных возможностей на Востоке по сравнению с Западом чаще всего не объясняется какими-то особыми физическими качествами азиаток, сколь бы привлекательны они ни были. Но, безусловно, очень многие мужчины испытывают сильное влечение к худощавым, тонкокостным, черноволосым азиатским женщинам, у которых груди формой похожи скорее на сливы, чем на дыни, а ягодицы и бедра чаще подтянуты, чем полны. В глазах мужчин некоторые из женщин, танцующих на сцене в “Энджел-Уитч”, действительно приближаются к упомянутому Ларсеном идеалу “сногсшибательной красотки”. Кроме того, ввиду относительно миниатюрного телосложения многих азиатов и относительно редкой растительности у них на лице и на теле тайских транссексуалов довольно трудно с виду отличить от женщин, и потому они очень привлекательны для мужчин, которых тянет к так называемому третьему полу.
К почти незаметной одежде каждой из девушек, выступающих на сцене “Энджел-Уитч”, приколот номерок, и клиент вправе пригласить за свой столик любую из них. Затем клиент обязан будет купить ей стаканчик напитка, который в годы вьетнамской войны получил название “сайгонского чая”. А может быть, он с разочарованием узнает, что приглянувшаяся ему девушка уже приглашена кем-то другим, и в этом случае ему стоит повторить расхожую циничную поговорку по поводу девушек из бара: в Таиланде у тебя никогда не уведут девушку, тебе просто придется подождать своей очереди. А если она сядет за столик рядом с клиентом, то будет показывать всем своим видом, что очень рада приглашению. Вскоре она уже уютно прижмется к выбравшему ее мужчине, возьмет его за руку, другую руку положит к себе на бедро, даст ему ощутить запах своих духов и будет скромно дожидаться, когда он предложит заплатить так называемую барную пеню и уйти. Барная пеня – это сумма (в 2007 году в “Энджел-Уитч” она составляла около двадцати долларов), которая выплачивается бару в качестве компенсации за отсутствие работницы в течение часа или двух.
В тот вечер бар был битком набит мужчинами, сидевшими на скамьях вокруг сцены. Эти скамьи – что-то наподобие мест на открытой трибуне стадиона. Некоторые из мужчин были в летах, с животами и лысинами, но были там люди и помоложе, крепкие и мускулистые, коротко стриженные. Я познакомился с Дейвом “Рейвом” – бывшим социальным работником и любителем боевых искусств из Англии, который управляет баром “Энджел-Уитч” вместо его владельца – как мне сказали, немца (хотя, согласно законам Таиланда, у него должен быть местный партнер). Дейв – кладезь сведений о культуре барных девушек и их клиентов, большой ценитель этой культуры и, подобно Ларсену и Барретту, знаток связанных с ней рисков.
Он рассказал мне, что пользующаяся успехом девушка из бара может зарабатывать больше сто тысяч тайских батов в месяц, что примерно соответствует трем тысячам долларов. Для Таиланда это очень неплохой заработок. В “Энджел-Уитч”, сказал Дейв “Рейв”, девушки получают месячное жалованье в девять тысяч батов – около трехсот долларов. Они получают комиссионные каждый раз, когда клиент покупает им выпивку. Они получают чаевые. А еще они зарабатывают от пятидесяти до семидесяти долларов каждый раз, когда клиент платит за них барную пеню и они занимаются с ним сексом. Если посетителей много, то некоторых девушек за вечер уводят, платя за них барные пени, по два-три раза, а то и больше.
В здешней атмосфере невольно подпадаешь под гипноз. Как и в массажном салоне “Баловник”, обстановка в этом баре смутно и странно напоминает рисунок Томаса Роулендсона (о нем уже шла речь выше), где изображен возбужденный султан, обозревающий обнаженных женщин, которые стоят перед ним в два яруса, и каждая силится привлечь его внимание. Но только “Энджел-Уитч” – это явный шаг вперед по сравнению с гаремом Роулендсона, потому что, по правде сказать, женщины Роулендсона, во-первых, чересчур похожи друг на друга, а во-вторых, далеко не красавицы. Этих голых, бесстыжих, несколько коровистых женщин никак не назовешь соблазнительными. Тайские же девушки из баров, напротив, все как на подбор юны, и некоторые из них чрезвычайно соблазнительны. Я заметил, что в отличие от женщин на рисунке Роулендсона они принимают позы видимого безразличия к наблюдающим за ними мужчинам. Они не ловят их взгляды. Не подают явных призывных знаков. Немного странно, что позы, говорящие о равнодушии и недоступности, принимают молодые женщины, доступные по определению, и тем не менее своим видом они демонстрируют, что добиться их внимания будет непросто. У этих женщин шелковистые волосы, миндалевидные глаза и светло-коричневая кожа. Я понимаю, что, описывая их столь восторженно, я, пожалуй, забываю об их жизненной ситуации – о том, что эти женщины проститутки и что с преобладающей на Западе точки зрения они подвергаются унижению и эксплуатации, что только нищета заставляет их выставлять себя напоказ, словно они собаки в конуре, и заниматься сексом с любым мужчиной, который этого пожелает, каким бы уродом тот ни был.
Мы вернемся к оценке такого взгляда на вещи позже, а пока давайте воздержимся от суждения. Отметим лишь, что само такое суждение – это как раз одна из тех черт, которые всегда отличали христианскую культуру вины и греха, господствовавшую на Западе, от гаремной культуры Востока. Здесь важно другое: то, что для Роулендсона было двусмысленной сатирой, высмеивавшей мужские мечты о Востоке, в местах вроде Таиланда сделалось совершенно свободной от насмешек, гипнотизирующей реальностью. По мере того как длительная история взаимоотношений Востока и Запада вступает в свою нынешнюю стадию, именно в заведениях типа “Энджел-Уитч” сбывается вековая мечта Запада о Востоке.
“В Нью-Йорке я бы по битому стеклу ползал ради любой из этих девушек, – сказал мне Барретт, заглушая мелодию Born to be Wild, звучавшую из динамиков в “Энджел-Уитч”. – А тут тебе предоставлен роскошный выбор самому определить, кто лучше всех”.
В свою очередь, Дейв “Рейв” не умалчивал и об опасностях. “Когда живешь в Таиланде, нужно иметь какое-то занятие”, – сказал он. Мы сидели на одной из скамеек в “Энджел-Уитч”, и перед нами двигались и извивались на клубной сцене пятнадцать девушек. Мерцали огни, в ушах пульсировал ритм. Все это сильно отвлекало меня от ведения записей, а Дейв внимания на это почти не обращал. Он перечислял те особые опасности, которые угрожают благополучию иностранцев в Таиланде. Но самый большой риск связан не с сердечными заболеваниями, раком легких или желудочно-кишечными расстройствами из-за очень пряной тайской пищи. Это даже не риск подхватить болезни, передающиеся половым путем, особенно СПИД, потому что в наше время в Таиланде девиз большинства девушек из баров – “никакого секса без презерватива”. Главный риск – это мужская эротомания, сексуальная зависимость, впав в которую человек просиживает по многу часов, ночь за ночью в барах вроде “Энджел-Уитч” в состоянии полного безволия на грани распада личности.
“Тут запросто можно спятить, – сказал Дейв. – Есть такие чуваки, которые вообще дневного света не видят. Так что нужно обязательно чем-нибудь заниматься – играть в гольф, изучать тайский язык, писать, в общем, на чем-то сосредоточиться. Я вот делаю веб-сайт”. (Впрочем, я заглядывал на его сайт спустя примерно год после нашей беседы и убедился, что там не появилось почти ничего нового.)
Дейву известны истории про людей, которые возвращались к себе в Мюнхен или Лондон и слали оттуда денежные переводы, по сто долларов или больше ежемесячно, девушке из бара, в которую влюбились в Бангкоке, пытаясь завоевать ее искреннюю привязанность. “Они это делают, потому что в душе надеются, что тогда девушка будет лучше к ним относиться”, – пояснил он.
Некоторые девушки, сказал Дейв, помимо зарплаты, комиссионных и платежей от клиентов получают “стипендии” от нескольких мужчин одновременно, а когда один из этих мужчин приезжает в Бангкок в отпуск на неделю или две, то она проводит все время с ним (при этом ей остается только надеяться, что в это же самое время не объявится еще один из ее обычно далеких благодетелей). Получается нечто вроде “таймшера” – как при поочередном использовании шале на горнолыжном курорте или дома на море. Таких женщин можно увидеть в интернет-кафе на улице Сукхумвит: они пишут электронные письма своим благодетелям, чтобы денежный поток не иссякал, и сообщают каждому из них, как они по нему скучают и мечтают, чтобы он прилетел в Бангкок, потому что у них куча проблем и нужно, чтобы кто-то о них позаботился. “Мужчины распускают слюни, – услышал я от другого давнего резидента Бангкока. – А женщины просто делают бизнес”.
Западные мужчины влюбляются в этих женщин. Им хочется ответной любви, а иногда их охватывает вызванный эротическим наваждением миссионерский порыв, и они возгораются желанием спасти девушек от той жизни, к которой их подтолкнула нищета. “Так поступают американцы, – добавил Барретт. – Это вколочено в них культурой”. С мыслями о девушке по имени Нана, или Нои, или Ам они возвращаются к себе домой, в пустую квартиру или к опостылевшим и постаревшим женам, а тайки, с которыми они познакомились в заведениях вроде “Энджел-Уитч”, очень умело изображают искренние чувства. Они разыгрывают любовь так искусно, что просто невозможно противиться иллюзии (а может быть, это и не иллюзия вовсе?), будто эти женщины, которым нужно платить за обучение младших братьев и сестер, за лечение родителей, за ремонт дома, а также покупать мотоциклы, испытывают к ним самые подлинные чувства.
“Мой совет этим ребятам – платить по правилам игры и не больше, – сказал мне Дейв “Рейв”. – Я иногда спрашиваю их: “Как вы думаете, что у вас может быть общего хоть с одной из этих девушек? Она вдвое, а то и втрое моложе вас. Она родилась в совершенно другой культурной среде, говорит на другом языке. Что между вами общего кроме того, что она любит деньги, а вы – секс?”
Свидетельства, оставленные европейскими торговцами прошлых эпох, говорят о том, что Таиланд – по крайней мере на протяжении последних четырех столетий – оказывал приезжим гостеприимство сексуального свойства. “Они всегда приближаются к мужчинам, зазывают зайти к ним в дом и переспать с ними”, – писал один из купцов, Кристоф Карл Фернбергер фон Эгенберг, о женщинах в порту Айютайя, где он побывал в 1624 году. Фон Эгенберг, чьи дневники были обнаружены в Австрии в 1972 году, писал, что сиамские женщины “чрезмерно распутны”. (Тут впору задуматься, где проходит нравственная граница между распутством и чрезмерным распутством.) Другой голландский купец, Якоб ван Нек, посетивший Таиланд (тогда Сиам) в начале 1600-х, описывал систему временных браков (сродни той, что бытовала в Нагасаки), благодаря которой иностранные торговцы могли наслаж даться обществом одной из будто бы распутных жительниц этой страны в течение условленного срока. “Как только они договариваются о цене (а речь идет не о такой уж большой сумме за столь важные услуги), женщина приходит к нему в дом и начинает служить ему днем как служанка, а ночью – как законная жена”, – писал ван Нек.
Поразительно, насколько мало поменялось за истекшие годы, ведь заезжие иностранцы XVII века не так-то уж отличались от иностранцев XXI! Что изменилось, так это масштаб и внешние атрибуты явления, но не его суть. Схожи эти две эпохи и в другом: поведение проституток XVII века говорило о поведении сиамских женщин в целом ничуть не больше, чем поведение проституток XXI века говорит о поведении всех тайских женщин сегодня. Ведь Эгенберг, упоминая о “распутстве” сиамок и не оговариваясь, что его замечание относится только к портовым проституткам, явно допускал неточность. Если тогдашние сиамцы хоть сколько-нибудь походили на нынешних тайцев, то они были довольно чопорны в области секса, хотя тогда, как и сейчас, в Таиланде преобладала гаремная культура. В сегодняшнем Таиланде очень редко можно увидеть прилюдное проявление нежных чувств. На улицах единственные люди, которые держатся за руки, – это иностранцы и их наемные подружки. “Приличные” тайские юноши и девушки, мужчины и женщины так себя не ведут. Внебрачный секс для мужчин не считается грехом в Таиланде, как на преимущественно христианском Западе (по крайней мере официально), и политические власти под сильным давлением общественного мнения никогда не предпринимали там попыток что-то сделать с местным сексуальным промыслом. Однако подобно другим странам с преобладанием гаремной культуры Таиланд – страна, где в обществе доминируют мужчины, а большинство женщин, особенно молодых и незамужних, находятся под усиленным контролем.
О том, до какой степени там доминируют мужчины, можно составить представление по строгим правилам, которые тайская традиция навязывает женщинам. “Женщина спит слева от мужа, потому что слева менее почетное место, – сказал антрополог Уильям Клаузнер, который с 1950-х подолгу жил в Таиланде и изучал его, в интервью, которое он дал в Бангкоке в 2007 году. – За столом женщина имеет право приступить к еде лишь тогда, когда ее муж уже съест три ложки. В конце года жена приносит свечи, ароматические палочки для воскурений и тому подобное и просит у мужа прощения за совершенные ошибки. Муж не просит у жены прощения за свои ошибки. Конечно, эти обычаи сходят на нет, их мало кто придерживается, и все же они часть тайской традиции”. И пускай от современных таек никто не требует, чтобы они просили прощения у мужа, тем не менее от них по-прежнему требуется послушание родителям, скромный внешний вид, сохранение девственности до замужества и верность мужу. От мужей, напротив, верности никогда не требовали, не требуют и сейчас.
То, что предлагалось иностранцам в XVII веке, и то, что предлагается им сейчас, – это разновидность удовольствий (несколько адаптированная для западного вкуса, наподобие того как китайская кухня адаптирована для американского Среднего Запада), которые тайские мужчины всегда считали своим законным правом, главное – чтобы никто не добивался этих же удовольствий от их собственных дочерей. Восточная, особенно Юго-Восточная, Азия всегда славилась сексуальным гостеприимством: предложить гостю женщину считалось обычной любезностью. В 1970-е на Тайване, когда происходил рост внешней торговли и иностранных капиталовложений, сексуальное гостеприимство стало обыденным элементом в общении с иностранными деловыми партнерами. В начале 1970-х, когда я изучал китайский язык в Тайбэе, я познакомился с добровольцем из Корпуса мира, который когда-то работал тайваньским представителем компании, ввозившей пластмассовые рождественские елки в США. Ему часто приходилось бывать на деловых ужинах с владельцами фабрик, которые изготавливали эти елки или хотели заключить контракты об их производстве. Чаще всего за столами на ужинах прислуживали обнаженные или почти обнаженные официантки, а по окончании трапезы иностранному гостю предлагалось выбрать себе по вкусу одну из официанток или, может быть, даже двух и удалиться с ними в частные покои, чтобы насладиться, так сказать, десертом.
На Тайване власти, отказавшись от законов против проституции, руководствовались трезвым расчетом. Им нужны были иностранные капиталовложения, а одним из способов привлечь деньги было предоставить инвесторам, в большинстве своем мужчинам, приятное времяпрепровождение, недоступное у них на родине. В Китае в середине 1980-х, когда экономические реформы привели, как десятилетием ранее на Тайване, к большому притоку иностранных капиталов, местные чиновники принялись спорить: не следует ли ослабить существующие в стране суровые законы против проституции? В некоторых областях чиновники решили, что существующий запрет на сексуальный промысел ставит их в экономически невыгодное положение, поскольку инвесторы, в массе свой мужчины, предпочитают вкладывать деньги в те места, где смогут развлекаться с девушками. С тех пор, хотя проституция в Китае продолжает считаться незаконной, как я уже говорил, почти всякий приезжий, остановившись почти в любой гостинице, без труда может найти себе женщину на ночь.
То, что предлагает приезжим Таиланд, можно назвать сексуальным гостеприимством по принципу самообслуживания. Конечно, тайцы не планировали такой системы. Напротив, заметно некоторое общенациональное смущение, вызванное тем, что их страна превратилась в мировую столицу секс-туризма. Однако произошло это, так сказать, естественным путем, а не в соответствии с каким-то сознательно продуманным и спущенным сверху планом. Как известно, страна служила излюбленным местом назначения для солдат, отправлявшихся в отпуск для “отдыха и развлечения”, в годы вьетнамской войны, а в 1960-е и в начале 1970-х, когда тысячи американских солдат были расквартированы в самом Таиланде, сфера сексуальных услуг просто расширилась, чтобы удовлетворить возросший спрос. В каждом из тех городов Таиланда, где разместились военно-воздушные базы США, появились свои вереницы баров и гостиниц с почасовой оплатой. Что поразительно, эти заведения по-прежнему там. Они обслуживают туристов и других путешественников мужского пола, а также престалерых европейцев и американцев (часто это пенсионеры), которые поселились в северовосточном Таиланде, где обзавелись женами-тайками. Многие из этих мужчин, как мы еще убедимся, живут в маленьких деревушках неподалеку от больших городов, но некоторые из них периодически ездят в Удонтхани, Накхонратчасиму или Кхонкэн в поисках легкодоступного секса. В Таиланде с этим легко, и трудно противиться искушению. “Отличная кухня, напитки, бассейн, девушки” – так рекламировал свои предложения ресторан в Удонтхани, когда я побывал в этом городе в 2007 году. Рекламное объявление было напечатано на официальной туристической карте, какие распространялись в городских гостиницах.
Главными центрами “отдыха и развлечения” в Таиланде были Бангкок и Паттайя. В Бангкоке джи-ай, у которых с деньгами было туговато, кучковались на недавно отстроенной улице Нью-Питчбури-роуд, где все находилось под рукой: гостиничные номера по пять долларов за ночь, бары, массажные салоны и рестораны. Порой в Бангкок прибывали сразу тысячи американских солдат, чтобы в течение недели отдохнуть от войны во Вьетнаме, а в остальных районах Бангкока даже не подозревали об их присутствии.
В конце 1960-х и в начале 1970-х главным и любимым местом развлечения иностранцев постепенно становился Патпонг, названный в честь Удома Патпонга, получившего образование в Британии и Америке сына китайского торговца рисом. Но там собирались уже не джи-ай, а более состоятельные штатские служащие, дельцы, агенты ЦРУ, пилоты “Эйр-Америки” и журналисты, которые наводнили Таиланд в годы вьетнамской войны. Землю, на которой находится нынешний Патпонг, некогда купил отец Удома, Пун Пат, хотя в ту пору это еще была сельская местность с рисовыми полями и овощными хозяйствами. В начале 1930-х там построила штаб-квартиру Корпорация банков Гонконга и Шанхая (КБГШ). Лишь в начале 1960-х, судя по фотографиям тех лет, район стал походить на бангкокскую улицу: застроенный домами отрезок дороги, протянувшийся в длину метров на двести с лишним и соединивший два широких проспекта – Силом (что означает “Ветряная мельница”, раньше здесь было много голландских ветряных мельниц для орошения засеянных полей) и Суривонгсе. Застройка была представлена в основном двухэтажными домами с деревянными каркасами, в числе которых было несколько тихих и скромных питейных заведений с официантками без жалованья, так называемыми призраками (официально их вообще не существовало).
Но в 1969 году американец Рик Менард, вертолетный механик, выполнявший служебный долг во Вьетнаме, открыл заведение под названием “Гран-при”, и ему пришла в голову блестящая идея: установить над барной стойкой сцену, где будут танцевать девушки. Это стало первым заведением подобного типа (“гоу-гоу”, то есть активного и эротичного) в Патпонге. Изначально такая идея возникла как подражание тогдашнему новомодному веянию, которое недавно зародилось на северном пляже Сан-Франциско: там Кэрол Дода, женщина со знаменитой силиконовой грудью, быстро завоевала славу тем, что танцевала топлес, а в ту пору это казалось невероятно смелым. Впрочем, тайские женщины не танцевали полуобнаженными, на них были купальники бикини – еще одно привозное американское новшество и символ сексуального раскрепощения 1960-х. Потом стали открываться все новые бары “гоу-гоу”, а заодно и массажные салоны, гостиницы с почасовой оплатой и клубы с различными секс-шоу. Эти заведения находились под мягким надзором тайской полиции. Почти тот же процесс происходил и в Паттайе, которая в ту пору представляла собой тихую рыбацкую деревушку на берегу Сиамского залива, в двух часах езды от Бангкока, с белоснежным песчаным пляжем в форме полумесяца. Оба места возникли по образу и подобию улицы Ту До в Сайгоне. Вьетнамская война закончилась, но и Патпонг, и Паттайя остались при деле – они служили приманками для секс-туристов со всего мира и для растущего мужского сообщества иностранных резидентов. Такая же ситуация наблюдается и сегодня. В Паттайе зона развлечений расположена главным образом у настила, идущего вдоль пляжа, и в лабиринте прилегающих улочек, где по ночам прекращается автомобильное движение. Это потрясающее, фантасмагорическое карнавальное зрелище – яркое, крикливое, многолюдное цирковое действо, достойное кисти какого-нибудь современного Иеронима Босха, поистине сад земных наслаждений. В Бангкоке есть места вроде трехэтажного развлекательного центра “Нана Плаза” – это не менее легендарное, сказочное, сладострастное и гротескное заведение, настоящий восточный базар, предлагающий то, что джи-ай обозначали аббревиатурой “ай-энд-ай”, что расшифровывалось как “соитие и подпитие”.
Соитие и подпитие (или “спирт и флирт”) – вот два главных состояния (разумеется, с сильным уклоном в сторону соития), к которым стремятся многие посетители Паттайи и подобных мест в Юго-Восточной Азии, где традиция сексуальных приключений не прерывалась, а была подхвачена потомками колонизаторов XVIII и XIX столетий. Но розничные потребители секс-индустрии Таиланда – публика весьма разнородная. Одни – вроде тех, кто шлет ежемесячные “стипендии” женщинам из “Энджел-Уитч” – предпочитают витать в облаках, наслаждаясь ощущением полного блаженства; другие – люди вроде посетителей бара Ларсена в Паттайе – выбирают постоянную альтернативу смертельно скучному (по их мнению) существованию на родине. Но в последние годы в Таиланде стала заметной любопытная вариация на обе темы. Теперь туда устремляются представители европейской богемы, для которых крикливая пошлость Паттайи была бы истинным проклятием; они мечтают вовсе не о том, чтобы трижды в месяц наслаждаться оплаченными свиданиями с тайскими девушками из баров, – нет, вместо этого им нужно нечто постоянное. Они пытаются хотя бы на склоне лет вести приятную супружескую жизнь, после того как прежние попытки обзавестись семьей потерпели крах. Есть в этом что-то киплинговское – напоминающее строки из стихотворения Киплинга “Мандалай”: “Нет, меня другая ждет, / Мой душистый, чистый цветик у бездонных, сонных вод…” Конечно, многим из тех мужчин, что обосновались сейчас в маленьких тайских деревушках, в больших домах, с женами-туземками, киплинговские строки показались бы чересчур романтичными, ведь в основном это вполне трезвомыслящие люди, которые даже немного гордятся тем, что чужды иллюзий. Но все-таки и им, ведущим жизнь среди тростников, растущих вдоль берегов Меконга, Восток предлагает не фантазию, а реальность, включая ту самую милую девушку, “чистый цветик”, а также тихое экзотичное место, где отсутствует гнетущее давление современности, где они могут дышать свободно.
Отступление восьмое
Сжимается сердце скитальца
Бан-Као – обыкновенная деревушка в северо-восточной области Таиланда, известной под названием Иссан. Это равнина с населением примерно в двадцать один миллион человек, лежащая между рекой Меконг на севере и востоке (по которой проходит граница с Лаосом) и Камбоджей на юге. На север идет широкая главная дорога от столицы округа Удонтхани, где во время вьетнамской войны размещалась одна из семи военных баз США, до Нонгкхай, расположенного по диагонали от Вьентьяна, столицы Лаоса, по другую сторону Меконга.
У этой главной дороги находятся автомагазины, детские ясли, рестораны под открытым небом, бензоколонки и торговые центры, где продаются маленькие декоративные святилища, которые тайцы обычно ставят у себя дома, чтобы там обитали домашние духи. Поблизости в полях выращивают рис. Но Иссан – беднейшая область Таиланда, и главный здешний урожай – это те самые девушки, что населяют кварталы сексуальных развлечений в Бангкоке, Паттайе и других местах Таиланда. В последние годы здесь начали селиться иностранцы (их уже тысячи), и они часто привозят сюда, в родные деревни, женщин, с которыми познакомились в больших городах. Там они женятся на них и живут с ними в надежде, что лишь смерть разлучит их.
В одном только Бан-Као насчитывается тридцать таких смешанных супружеских пар. “Обычно если видишь на северо-востоке какой-то большой дом, то сразу понимаешь: этот дом принадлежит иностранцу, который женился на тайке”, – объяснял мне местный староста Адул Кханкеау. Мы беседовали за уличным столиком почтового отделения Бан-Као, у главной мощеной дороги, пересекающей поселок. Напротив находился буддийский храм (по совместительству начальная школа). Большинство строений вдоль дороги представляли собой примитивные лачуги с кровлей из гофрированного металла, окруженные зарослями бананов и пальм. Там и сям паслись водяные буйволы, характерными движениями мотавшие головой вверх-вниз и вправо-влево. Почтовое отделение украшали портреты короля и королевы в торжественных нарядах. Несколько кур клевали что-то на небольшом огородике, посреди которого помещалось святилище для домашних духов. На Кханкеау были синие шорты, рубашка с набивным рисунком и пластиковые шлепанцы, а на шее висел тяжелый золотой кулон.
Вот как все получилось, рассказывал он. Одна местная женщина развелась с мужем-тайцем и уехала работать в Паттайю. Там она познакомилась с немцем, и он женился на ней, построил для нее большой дом здесь, в деревне (этот дом – массивное строение с портиками, узорными коваными воротами, скошенной крышей, выложенной рыжей черепицей, – стоял буквально в нескольких шагах от почты), и стал бережно заботиться о ее родне. Когда другие женщины увидели, как хорошо она устроилась, им тоже захотелось найти себе мужей-иностранцев, и жена немца познакомила кое-кого из них с друзьями мужа. Но его друзей, конечно, на всех не хватило, поэтому остальные женщины уехали в Бангкок и Паттайю, и некоторые из них нашли там себе мужей.
Согласно исследованиям, проводившимся Тайским национальным комитетом по экономическому и социальному развитию, 15 % всех браков в провинции Удонтхани заключено между тайками и иностранцами, среди которых численно преобладают немцы, австрийцы и швейцарцы. Всего, по данным на 2004 год, было заключено более пятнадцати тысяч браков между тайскими женщинами и иностранцами. Как сообщали тайские газеты, в одной деревне в провинции Рои Эт, где проживало двести семей, насчитывалось двести местных уроженок, вышедших замуж за иностранцев. Многие, если не большинство, из таких пар поначалу живут в Европе, или по крайней мере там продолжает жить муж, навещая жену только во время отпуска, а затем, выйдя на пенсию, он окончательно переселяется в Таиланд.
Миграцию европейских мужчин, нашедших себе пару в северо-восточном Таиланде, нельзя назвать сколько-нибудь крупным и глобальным демографическим явлением, но, безусловно, на первый взгляд это явление кажется странным. И в самом деле, можно ли представить себе людей, более несхожих по возрасту, культуре, языку, религии и уровню образования, чем эти немцы, швейцарцы, французы, англичане и американцы и их жены-тайки из Иссана? Однако сама необычность такой тенденции делает ее ценной иллюстрацией куда более обширного исторического феномена – стремления западных мужчин попасть на Восток, чтобы осуществить свои мечты. С мужской точки зрения, в этих тайских женщинах определенно есть нечто крайне привлекательное, и наоборот. Согласно упомянутому выше исследованию Комитета по развитию, 80 % тайских женщин однажды уже побывали замужем за тайцами и развелись. Кроме того, как показал опрос, многие женщины утверждали, что западные мужчины “лучше” тайцев: что они более верные, более надежные, менее склонны к азартным играм, разврату и пьянству (хотя, что парадоксально, немалое число этих западных мужчин познакомились со своими иссанскими женами именно в процессе “разврата”). Те качества, которые в материалах исследования были названы “дурными привычками тайских мужчин”, оказались среди трех главных причин, которые указывали миа фаранг – жены иностранцев, – объясняя, отчего они выбрали в мужья мужчин с Запада. В одной тайской газете приводились слова женщины, состоявшей в браке с немцем. Общий смысл был таков: очень многие, хотя и не все, тайские мужчины – плохие. “Вот что я могу сказать: я не выйду замуж за тайца, если только не получу приказ от самого Бога”, – заявила она.
Что же касается мужчин, то автор одного письма в англоязычную тайскую газету “Нейшн”, где есть раздел, посвященный миа фаранг, назвал их “злосчастными отбросами западного общества, питающими пристрастие к азиаткам”, которые в свою очередь являются жертвами “слепого идолопоклонства перед всем белым / западным”. В действительности никаких исследований, связанных с мужчинами-иностранцами, похоже, не проводилось, так что трудно делать какие-либо обобщающие выводы относительно их якобы злосчастных жизненных обстоятельств. Мой очень скромный опыт общения с ними, обретенный во время поездки в Бан-Као в 2007 году, идет вразрез с подобными инсинуациями. У меня сложилось впечатление, что это люди, сделавшие в прошлом неплохую, а порой даже весьма успешную карьеру, хотя, как и следовало ожидать, их отношения с западными женщинами оказались менее успешными. Подобно своим женам-тайкам, многие из них в прошлом состояли в браке, впоследствии распавшемся. В Таиланде нетрудно найти западных мужчин, которые отзывались бы о европейских женщинах как о хватких, эгоистичных, мужеподобных особах, оказывающих на мужчин некое кастрирущее воздействие и зараженных (по их мнению) идеологической гнилью феминизма. Правда, я беседовал в Иссане с четырьмя мужьями таек, и ни один не высказал подобных резких суждений. Однако они действительно находили, что, как выразился француз по имени Жан Клод, тайские женщины отличаются редкостной мягкостью нрава, они менее требовательны и охотнее берут на себя традиционную женскую роль. Излишне и говорить, что никому не известны такие случаи, чтобы какая-нибудь западная женщина, быть может, спасаясь от неудачного брака с грубым, себялюбивым и склонным к рукоприкладству мужем, приехала бы в Иссан и вышла замуж за тайского крестьянина. Представить себе, скажем, шестидесятилетнюю немку-юристку, которая вышла бы замуж за тайца вдвое ее моложе и с начальным образованием, настолько трудно, что почти смешно спрашивать – почему? Объяснение очень простое: в Азии в выигрышном положении всегда оказывались – и оказываются до сих пор – мужчины, а не женщины.
Это вовсе не значит, что западным мужчинам, которые ищут счастья в Иссане, никогда не грозили неприятности. Поскольку в основе всех союзов, связывающих таек с иностранцами, изначально лежит беззастенчивая материальная корысть, то случаются и трагедии, и обманы. Один австрийский резидент Бан-Као, назвавшийся Кристофом Килли, рассказал мне о своем соотечественнике, почти восьмидесятилетнем мужчине. Тот лишился дома, который построил для своей юной жены-тайки, и значительной части сбережений. По закону и дома, и земля должны принадлежать гражданам Таиланда, и потому нередки случаи (подобное произошло с бельгийцем, которого я встретил в Паттайе), когда жены-тайки просто завладевают недвижимостью, построенной для них мужьями-иностранцами, а иногда к ним даже переезжают их молодые бойфренды-тайцы. Именно такая история приключилась с незадачливым восьмидесятилетним австрийцем.
“Я ему говорил: “Поглядите на себя в зеркало”, – рассказывал мне Килли. Мы сидели у него дома, в одном из тех самых больших домов, появившихся в Бан-Као. Он живет там вместе с женой, которую мы назовем Лит. – Я спрашивал его: “Неужели вы в самом деле верите, что эта молоденькая тайка вас любит?” Килли заметил, что способность западных мужчин к самообману поистине безгранична: “Тайка никогда не выйдет за фаранга из-за любви. Они выходят за нас только потому, что видят в нас богачей. Это можно выразить одной фразой. Заполучить фаранга значит выбраться из дерьма. Потому что мы, фаранги, отличаемся от тайцев. Они все считают нас глупцами. Вот и она тоже думает, что я глупец”, – добавил он и показал на свою жену. “Да, он глупец”, – проговорила она и улыбнулась. Это была миниатюрная женщина с нежным овальным лицом и короткой стрижкой.
“Фаранги в Таиланде действуют напрямик, – продолжал Килли. – А в Таиланде нужно ходить кривыми путями, – тут он изобразил рукой в воздухе волнистую линию. – Фаранги глупы, потому что слишком верят в любовь. И вот женщина строит глазки, говорит: “Я тебя люблю”, – и он ей верит. А еще он ее жалеет. Она говорит: “У меня двое малюток. У меня больна мать”, – и мы, глупые фаранги, чувствуем потребность защитить слабого. Не знаю почему. Наверное, это внушила нам религия… Я тут видел страшные вещи. Я видел женщин, у которых были мужья-тайцы, а они знакомили с ними фаранга, выдавая их за своих братьев. И вот они сидят вместе, и едят вместе, и фаранг расплачивается. Потом он покупает “брату” мотоцикл – а это вовсе никакой не брат”.
А тот престарелый австриец однажды после ужина загадочно заболел, после чего улетел в Астрию лечиться и больше не возвращался в Бан-Као. Его общие финансовые потери, по словам Килли, составили около трех миллионов батов, чуть меньше трехсот тысяч долларов. В любом случае, как сказал Килли, юрист-международник на пенсии, специализировавшийся на нефтяном бизнесе, – тот австриец-простофиля не мог бы предъявить никаких законных претензий ни на дом, ни на деньги, которые отдал жене.
Сам Килли оказался довольно примечательной личностью – оригиналом и эксцентриком. Во время Второй мировой войны он и его семья покинули родную Вену и поселились вместе с родственниками в Катовице – городе, который в те годы находился в германской Силезии, а сейчас – на юге Польши. Когда советские солдаты освобождали эти территории, всех членов семьи Килли отправили в лагерь для перемещенных лиц, где они провели два года. Затем их перевезли в Восточную Германию, и они провели еще год в лагере под Дрезденом, прежде чем их наконец репатриировали. Килли особенно запомнился момент, когда новоприбывших интернированных немцев привели в помещение для дезинфекции. Все они решили, что это газовые камеры, нарочно замаскированные под душевые, и что их сейчас умертвят. В глазах Килли эта паника послужила доказательством того, что немцы, несмотря на все их утверждения, прекрасно знали о существовании газовых камер и о том, что творили с евреями во время войны.
Килли чуть не плакал, когда рассказывал эту историю. Ему пришлось отвернуться к окну, сфокусировать взгляд на горизонте, чтобы снова взять себя в руки. А потом он отвел меня к себе в кабинет и поставил послушать песни на идише, которые скачал из интернета. “Какая же глубокая грусть в этой песне”, – сказал он про одну из них.
Килли – рослый мужчина с седеющими волосами и слегка впалыми щеками. В чертах его лица есть какая-то грубоватая, суровая красота, а серебристая оправа очков вторит цвету волос. В тот день, когда мы с ним встретились, он был одет в клетчатую рубашку с короткими рукавами, шорты и сандалии. После опыта жизни в лагере для интернированных он пошел в школу в Вене, а позднее работал юристом при нефтяных компаниях в Нигерии и на Ближнем Востоке. Он был женат, но брак оказался неудачен. У него были женщины по всему миру. С Лит он познакомился в Вене. У нее оказалась столь же богатая событиями биография, что и у него самого. В семнадцать лет она вышла замуж за тайца, но он ночевал в комнате своей матери, а в спальню Лит приходил только для секса. Она родила мужу ребенка, но потом ушла от него к другому мужчине – китайскому бизнесмену. От него она тоже родила ребенка.
“Я все время с ним ссорилась”, – рассказывала Лит о своем партнере-китайце. Желая уйти от него, она согласилась устроиться на работу на обувной фабрике на острове Пханг-Нга на юге. Возможно, Лит действительно поверила, что речь идет об обувной фабрике, и искренне удивилась, когда выяснилось, что на самом деле это бордель, обслуживающий тайских рабочих оловянных рудников в прибрежной зоне. Она рассказывала, что всех женщин заставляли зачитывать на диктофон определенные слова, свидетельствовавшие, что они поступают на работу в бордель по доброй воле. Если определить точнее новое положение Лит, она попала в рабство. Она провела там год, а потом, поскольку владельцам борделя хотелось постоянно обновлять рабочую силу, ее вышвырнули. Она познакомилась с одноногим полицейским и родила от него ребенка, но ушла от него, когда узнала, что он уже женат. Она поехала на Пхукет – остров-курорт в Андаманском море, где ее знакомые держали бар, и там-то встретила своего первого мужа-австрийца.
Он был секс-туристом. Ему понравилась Лит, и он увез ее в Вену, полагая, что Лит – если судить по ее рассказам – окажется послушной и управляемой женой. Когда же выяснилось, что у Лит имеются собственные желания – например, ей захотелось посещать венские казино, – он начал бить ее. Когда Килли увидел ее впервые, у нее был перебит нос и все лицо в синяках. Он купил ей билет в Таиланд, но от мужа-австрийца у нее был ребенок (уже четвертый по счету – все дети от разных мужчин), поэтому Килли купил ей и обратный билет, чтобы она могла вернуться в Вену и позаботиться о своем малыше. Однако в итоге этот ребенок так и остался с отцом в Вене, а Килли с Лит уехали жить в Бан-Као. Это случилось в 1996 году, за одиннадцать лет до моей встречи с ними.
Конечно, трудно судить по единственному визиту, но у меня сложилось впечатление, что в отношениях между Килли и Лит есть какая-то честность, которая и делает их чувства крепкими и искренними. Для Лит Килли стал спасительным выходом, и за это она прониклась к нему симпатией. “Я оставлю ей дом и кое-какие деньги, – сказал Килли, – так что она будет богатой женщиной. Ведь каждая деревенская тайская девушка мечтает разбогатеть”.
Ну а сам Килли? Почему такой человек, как он, – юрист-международник, уважаемый гражданин и успешный профессионал, – решил закончить свою жизнь в доме в тропиках, в Бан-Као, в Таиланде? Его судьба напомнила мне один эпизод, о котором рассказывал исследователь дальних земель Ричард Бёртон. Оказавшись в 1845 году в области Серода неподалеку от западного побережья Индии, Бёртон набрел на могилу некоего майора Г., своего доброго знакомого, который покинул Англию в юном возрасте и сделал своей страстью и новой родиной Индию, где влюбился в девушку-плясунью. Майор Г., по словам Бёртона, “откупился от полка… купил дом в Сероде, женился на чаровнице и прожил там до конца своих дней”. Его могила являла собой просто нагромождение камней, отмечая место, где погребли его пепел, и Бёртон заметил: “Всегда очень грустно видеть место последнего упокоения соотечественника в каком-нибудь укромном уголке на чужбине, вдали от праха его предков, и сознавать, что могилу ему рыли чужеземцы, что у ее края никогда не стояли скорбящие близкие и ни одна дружеская рука не поднялась, воздавая дань памяти достойно оплаканному усопшему. При виде такого зрелища сжимается сердце скитальца”.
Килли и большинство других европейцев, живущих в Бан-Као, отличаются от майора Г. тем, что приехали сюда не в юности, а уже в весьма преклонном возрасте, хотя они тоже женились на своих чаровницах и тоже имели скитальческие сердца. У Килли обстоятельства сложнее, чем у других, потому что в Бан-Као он не чувствует себя в безопасности. У него случались ссоры с одним из шуринов, которому он не доверяет. А незадолго до моей встречи с Килли к нему заявился одноногий полицейский и потребовал, чтобы Килли подарил ноутбук его дочери (теперь уже подростку) от Лит. Все деревенские хотят поживиться за счет богатых иностранцев, поселившихся среди них. Килли отказался, потому что, как он объяснил, ему не понравились грубые повадки полицейского. А через несколько дней кто-то вломился в дом и украл компьютер и видеокамеру.
После этого Килли поставил на двери новые замки. Но он понимает, что его богатство слишком уж бросается в глаза, а остальные жители Бан-Као прозябают в бедности, так что он для них соблазнительная мишень. Таиланд – одна из нескольких стран мира, имеющих самые высокие показатели насильственных смертей. Килли написал письмо, вложил его в конверт и запечатал, причем оставил копии в нескольких местах, а в письме описал свои стычки с одноногим полицейским и с шурином, чтобы, если его вдруг убьют, полиция знала, кого допрашивать. А еще он божится, что будет драться до последнего, если на него нападут, а если его убьют – что ж, пускай. Уж лучше погибнуть в бою, чем долго умирать в больнице с какими-то медицинскими штуковинами, подключенными к сердцу.
“Я не верю в любовь, хотя любовь многолика. Я никогда еще не встречал такого человека, как она, – сказал он про Лит. – И дело тут не в сексе. У меня столько женщин было за много лет!.. Когда я увидел ее в первый раз, я ощутил к ней жалость”. Она напомнила ему о евреях, жертвах нацизма, к которым он испытывал глубокое сострадание. Ему не довелось спасти ни одного еврея, зато ему выпал случай спасти Лит. А потом “чем больше я узнавал ее, тем больше уважал. Она оптимистка. Она умеет замечать что-то хорошее даже в самой жуткой ситуации. Мне кажется, она прекрасный человек”. Иными словами, он любит ее.
Жан Клод, которого я спросил, что же такого особенного в тайских женщинах, повторил расхожую фразу, какую часто можно услышать от западных мужчин: “В них есть такая нежность и кротость, какую нечасто встретишь в других странах”. А вот Килли не придавал особого значения якобы существующим различиям между азиатками и западными женщинами. Не следует забывать, что и он, и Жан Клод живут с женщинами, которые на тридцать лет моложе их и заведомо симпатичнее и обаятельнее любых спутниц, на чье общество они могли бы надеяться на родине. А где еще, как не в Азии, семидесятилетние мужчины – не слишком эффектные и не столь уж богатые по западным меркам – могли бы найти спутниц жизни намного моложе себя, и к тому же, как выразился Жан Клод, таких “милых”? Еще одна тайка, с которой я разговаривал, – жена того немца, что выстроил большой и нарочито нарядный дом возле местной почты, – высказалась об этом просто и прямо: “Тайские женщины лучше немок. Они заботятся о мужьях в первую очередь, а о себе только во вторую. Когда муж просыпается, его уже ждут намасленные тосты. Кофе уже на столе. Одежда опрятно висит в шкафу. Обувь вычищена и стоит наготове за порогом. Тайские женщины просят мужей не пить слишком много. Они бережливо обращаются с деньгами, не то что немки, которые вечно ходят по магазинам и что-то покупают. Немки любят поспорить, а тайки стараются не огорчать мужей, никогда не говорить таких слов, которые могут задеть чувства их мужей. Вот в чем различие”.
Разумеется, все это стереотипы, и они расходятся с опытом Килли, который говорил, что многие тайские женщины – коварные обманщицы. Для него жить в Таиланде значит осуществлять некую безудержную фантазию, мечту о побеге. “Брак – это хорошо, когда растишь детей, но потом ты оказываешься в кандалах. Поэтому я бросил все, оставил жену и двоих детей в Европе”, – сказал он.
“В Вене, – продолжил он, помолчав немного, – люди опутаны столькими обязательствами, столько всего приходится делать, а еще очень многого делать не позволяется. А здесь я наслаждаюсь свободой. Здесь у меня нет никаких обязательств”.
Глава 13
Выводы
Расхожая и морально безупречная точка зрения на эксплуатацию Западом Востока в сексуальных целях гласит, что она по большей части принимала формы проституции, а проституция сама по себе всегда несправедлива и унизительна. Все эти наложницы, миа-нои, сяо-най, биби, ми-тай, О-Кичи наших дней, как бы их ни называли на разных языках, ущемлены в правах. Извлекая выгоду из гаремной культуры (как я назвал это явление), западные мужчины стали соучастниками восточной традиции, позволявшей обращаться с женщинами как с неодушевленным товаром, требуя от них совершения очень сокровенного и интимного действа, по идее, окутанного покровом тайны и несущего глубокий смысл, – полового акта. Действительно, сексуальная эксплуатация местных женщин – это, безусловно, пятно на репутации, особенно в тех случаях, как в прошлом, так и в настоящем, когда вступавшие в связи женщины действовали не по доброй воле, а попадали в сексуальное рабство (иначе это не назовешь) под принуждением со стороны сводников, сутенеров или даже правительств.
Но стоит ли так легко делать выводы столь обобщенные, отвлеченные, оторванные от конкретных реалий? Существует мир, живущий по принципам идеальной морали, и существует другой мир, в котором мужчины и женщины охотно уступают зову природы и силе обстоятельств. Для Гюстава Флобера и Ричарда Бёртона охота за наслаждениями на Востоке составляла всю соль опыта, обретавшегося в странствиях по тем краям, они упивались аморальной роскошью желаний. Они не пускали в ход силу, не злоупотребляли беспомощностью детей, они лишь делали то, к чему их приглашали, и то же самое можно сказать о многих тысячах других, менее известных людей, которые вели себя сходным образом – или так, как Дэвид Охтерлони, в изысканных покоях делийского особняка, или, как подавляющее большинство, в мишурной обстановке дешевых борделей.
Так что же нам думать обо всем этом? Были ли британцы и французы, заводившие себе любовниц-туземок во времена империй, виновны в том, что колонизировали тела подчиненных и униженных женщин точно так же, как колонизировали родные земли этих женщин? А те мужчины, которые сегодня ездят в Таиланд и на Филиппины, тоже достойны презрения? Я хорошо помню момент, когда задумался над этим впервые. Это было в начале 1980-х, когда я работал корреспондентом “Тайма” в Китае. Я проводил тогда отпуск на Филиппинах, на южном побережье Манилы. Сидя как-то ранним вечером в ресторане под открытым небом, я увидел, как к входу подъехала машина и из нее вышел тучный, явно больной подагрой белый мужчина весьма преклонного возраста. Его сопровождала юная стройная филиппинка, она держала его под руку и помогала доковылять до ресторана. Я узнал, что этот человек был чиновником американского правительства, откомандированным на Филиппины, там он и вышел на пенсию, а теперь наслаждался компанией женщины лет на сорок моложе его. Помню, я ощутил тогда сильную антипатию к этому человеку за то, что он не пожелал стареть более достойно, за то, что был старым распутником. Ведь он явно купил общество своей подруги-филиппинки, уподобившись какому-нибудь мистеру Курцу из “Сердца тьмы” Конрада, принуждавшему свою помощницу к, безусловно, неприятной для нее интимной близости.
Конечно, большинство мужчин не следуют примеру этого человека. Многие заключают прочные и длительные брачные союзы и обретают в этом куда более глубокий смысл, чем в своей беспорядочной личной жизни обретают всякие хронически неверные мужья или любители секс-туров в Анхелес. Невольно испытываешь гораздо больше уважения к мужчинам, хранящим верность одной женщине, чем к тем, кто изменяет женам или, если они вообще не женаты, тратит время и деньги на погоню за множеством женщин. И даже среди тех мужчин, кто всю жизнь остается холостяком, или разведен, или состоит в давно выдохшемся браке, не сохранившем и следа былой любви и привязанности, большинство, скорее всего, вовсе не думают, что поездка в Таиланд или на Филиппины принесет им счастье. Уж лучше жить в достойном воздержании, чем пускать слюни над продажными красотками.
И в этом смысле – не теряя надлежащего релятивистского уважения к другим культурам – безусловно, следует воздать должное и христианской идее моногамии, и наследию рыцарских идеалов, с которым она неразрывно связана. Христианство задает более высокую планку. Оно наделяет некоторые ценности, например сексуальную верность, священным качеством, внушая мысль, что ради нее стоит жертвовать эгоистичными наслаждениями. Оно требует большего почтения к женщине, чем в гаремных культурах, и не допускает существования целого сословия женщин, чья жизнь целиком сводилась бы к обслуживанию телесных потребностей мужчин, на которых, со своей стороны, даже не накладывались бы обязательства любить этих женщин и хранить им верность.
И все-таки неужели в христианских странах происходит меньше измен, чем на Востоке? Никто не проводил статистических исследований в этой области, хотя, как уже указывалось, имеются несистематические свидетельства, ясно говорящие о том, что внебрачный секс гораздо шире практикуется на Востоке, чем на Западе, и там общество относится к этому явлению гораздо более снисходительно. Правда, и на Западе правила, предписывающие людям моногамию и супружескую верность, нарушаются сплошь и рядом. Разумеется, миллионы западных мужчин – моряки и аристократы, холостяки и женатые, солдаты и ученые – ездили на Восток и ходили там к проституткам, заводили любовниц, зачинали детей, которых потом бросали, вступали в такие сексуальные связи, которые у них на родине расценивались как уголовные преступления, и вели рассеянный и распутный образ жизни. Это исторические факты, которые не только проливают свет на человеческую природу, но и выявляют причину, по которой гаремная культура, если рассматривать ее под историческим углом, всегда распространялась гораздо шире, чем культура христианской моногамии. Пускай гарем как институт задавал более низкую планку поведения для мужчин, этот институт все-таки был более приближен к правде жизни, чем институт, основанный на моногамии и понятии вины, и более приспособлен к истинной человеческой природе или, во всяком случае, к истинной природе мужчин (хотя истинную природу женщин он почти совсем не учитывал). Он признает стремление мужчин к полигамии и находит способ осуществлять его, не создавая шумихи вокруг института брака, а заодно предлагает – опять-таки мужчинам, а не женщинам – возможность обновления страсти и освежения сексуального влечения, признавая как факт то, что страсть и сексуальное влечение в браке со временем тускнеют и ослабевают. Гарем по определению сексистское изобретение, и все-таки он порождает куда меньше лицемерия и ханжества, чем обычно наблюдается в странах, где преобладают западные сексуальные ценности. Многовековая история красноречиво свидетельствует, что плоть слаба, что единобрачие – труднодостижимый идеал, что одиночество и желание – мощные стимулы, а потому, когда местные женщины охотно и даже изящно предлагают себя западным приезжим, суля им кратковременный недозволенный рай, мало кто из мужчин на поверку оказывается святым.
Даже тот американец-подагрик на Филиппинах, который вызвал у меня такое презрение, пожалуй, заслуживает некоторого понимания. Ведь этот человек не нес моральной ответственности за бедность, которая вынудила его спутницу сделаться таковой. Скорее всего, она вступила с ним в связь потому, что это было ей выгодно. Возможно, она даже сама рекламировала себя – разместила фото и сведения о себе в одном из тех журналов (им на смену уже пришли сайты знакомств), с помощью которых азиатки подыскивали состоятельных западных мужчин. Очень вероятно, что она мечтала о таком выходе, который помог бы ей, как выразился Килли в своей тайской деревушке, выбраться из дерьма. И разумеется, весьма вероятно, что деньги, которые она зарабатывала своим телом, шли на помощь ее семье, потому что в Азии очень многие женщины – пожалуй, даже большинство, занимающиеся сексуальным промыслом, тесно связаны со своими семьями. Это отнюдь не какие-нибудь отбросы общества, оборвавшие семейные узы. К тому же они зарабатывают гораздо больше денег и для себя, и для родственников, становясь спутницами западных мужчин и удовлетворяя их сексуальные запросы, чем могли бы заработать, пойдя в прислуги или вкалывая на заводском конвейере. И если вдуматься, то неужели судьба той филиппинки, что сопровождала американца-подагрика, более плачевна, чем участь других женщин, которых обстоятельства заставляют заниматься тяжелым и неприятным трудом, – например, уборщицы из гостиницы “Манила” или тех людей, мужчин и женщин, что живут возле свалок и выуживают с помойки вещи для перепродажи? Тех, кто стал бы упорствовать и с презрением клеймить американского пенсионера или его любовницу-филиппинку за аморальность, впору спросить: а как бы поступили вы, оказавшись в такой же ситуации?
В Таиланде, где взаимодействие Востока с Западом осуществляется наиболее активно и в самых крупных масштабах, представлен весь спектр мнений по поводу сексуальной индустрии и ведутся споры о том, чем она является для страны – благом или позором? Разумеется, нетрудно найти таких людей, которые считают, что существуют законные альтернативы западным ценностям и западной сексуальной морали, и таких, кто считает постыдной славу своей родной страны как знаменитейшего центра секс-туризма (иногда оба мнения озвучивают одни и те же люди).
“Таиланд – страна с полигамным обществом”, – рассказывала мне в августе 2007 года доктор Чулани Тхиантхай, социальный антрополог из Чулалонгкорнского универстита в Бангкоке. Она объясняла основы тайской культуры, но не оправдывала их. “Общество смотрит сквозь пальцы на мужчину, имеющего нескольких сексуальных партнерш. Когда мужчина стареет и уже готовится умереть, он обычно берет себе новую молодую жену – может быть, не для секса и уж точно не для романтических отношений, а скорее для осуществления опеки над ним”. Ее слова вполне могли бы относиться к тому американцу на Филиппинах, да и в Таиланде, как мы видели, очень много подобных американцев. “У него появляется верная, преданная спутница, она готовит ему еду, ведет домашнее хозяйство, присматривает за персоналом, – говорит Чулани. – Поэтому у богача может быть несколько жен, и не все они обязательно являются его сексуальными партнершами”.
Чулани, выступая в роли беспристрастного исследователя, предпочитала не смотреть на предмет своего изучения сквозь призму личных убеждений. Но, когда я спросил ее, как она относится к секс-туризму в Таиланде, она дала ясный и однозначный ответ: отрицательно. “Разумеется, поскольку я сама тайка, я отношусь к этому плохо, – сказала она. – Но я не виню тайских проституток. Люди сами делают выбор”.
Тогда я спросил ее, винит ли она иностранцев, которые пользуются услугами иностранцев. “Да, виню. Они покупают за деньги тела и души людей, а это бесчеловечно. – Особенную неприязнь вызывают у Чулани посетители баров “гоу-гоу”. – Женщины, на которых приходят поглазеть мужчины, низведены до уровня животных в зоопарке. Все это просто перечеркивает ценность женщины как человеческого существа. Она просто перестает быть живой душой”.
Но ведь услугами проституток в Таиланде, возразил я, пользуются и сами тайцы, хотя тайцы ходят не в бары “гоу-гоу”, а в бордели или массажные салоны, которые одновременно служат борделями. Неужели есть разница между этими двумя занятиями – танцевать почти нагишом в баре и сидеть в “аквариуме” из цветного стекла? Ведь в обоих случаях девушки ждут, когда их выберет клиент, чтобы доставить ему сексуальное удовольствие. “Мне кажется, и то и другое бесчеловечно, – ответила Чулани, – только по-разному. Когда женщину выбирают сквозь стекло, она тоже превращается в сексуальный объект, но в барах “гоу-гоу” она превращается в животное”.
Позицию Чулани, убедительно изложенную и находящую отклик в высказываниях других женщин, невозможно игнорировать. Но даже здесь просматриваются моральные загвоздки, указывающие на то, что между культурами в самом деле существуют различия. Сама Чулани признает, что известны случаи, когда сексом за деньги занимались даже студентки университета – по крайней мере эпизодически, раз или два, а движущим мотивом оказывалось желание купить, например, шикарную дамскую сумочку или пару дорогих туфель, которые они давно присмотрели в универмаге “Эмпориум”. Таким образом, женщин к проституции не всегда подталкивает крайняя нищета. Кроме того, даже среди представителей среднего класса в Таиланде очень живучи старые привычки, и в сегодняшней тайской молодежной культуре сложился некий современный вариант давней полигамной культуры.
“В подростковом жаргоне для этого есть слово кик, – рассказала мне Чулани. – У молодого человека может быть постоянная подруга, а еще – романтические отношения с другой девушкой, кик. Таким образом, допустимо иметь больше одной партнерши. Эта кик – нечто большее, чем просто приятельница, но все-таки до постоянной подруги она недотягивает. Юноши предпочитают заводить себе не постоянных подруг, а именно таких кик”, – добавляет Чулани. Впрочем, этот термин не имеет рода, так что может относиться не только к второстепенной подружке юноши, но и к второстепенному другу девушки. А раз уж у юных, не связанных браком людей могут быть свои кик, то кажется более чем естественным, что и состоящие в браке взрослые люди, особенно женатые мужчины, могут иметь миа-нои, не навлекая на себя какого-либо общественного порицания. Чулани даже обнаружила, что тайские женщины, как правило, не испытывают сильной неприязни к проституткам, даже если к ним ходят их мужья или бойфренды. “Потому что обычно женщина понимает: это совсем не значит, что он ее не любит, это всего лишь удовлетворение сексуальных потребностей”, – пояснила она. К такому же выводу пришел антрополог Уильям Клаузнер, тоже преподающий в Чулалонгкорнском университете. “Когда я спросил своих студенток-юристок, как бы они отнеслись к внебрачным связям своих мужей, – сказал он мне, – они сразу же задали встречный вопрос: речь идет о связи с какой-то одной женщиной? Потому что в таком случае речь бы шла о соперничестве, и это бы им не понравилось. А если муж ходил бы то к Нои в Сонгкхла, то к Юм в Чангмаи, то тогда это их не слишком бы заботило”.
Разумеется, благоразумное приятие подобной полигамии – не то же самое, что приятие масштабной и глобализованной сексуальной индустрии как таковой. Истина по-прежнему такова, что очень немногие тайские женщины, у которых удачно складывается жизнь, согласились бы сами стать проститутками, даже если они готовы смотреть сквозь пальцы на визиты их мужей к проституткам. Да и вряд ли можно встретить такого мужчину – как среди тайцев, так и среди приезжих с Запада, посещающих бангкокские бордели, – который примирился бы с мыслью, что его собственная дочь занималась бы с другими мужчинами тем самым, чем он охотно занимается с чужими дочерьми. Поэтому трудно не воспринимать вакханалию, творящуюся в местах вроде Бангкока, как крайнее безобразие: все эти толпы иностранцев, рыскающих по улицам и барам, все эти орды с разных концов земли, которые набивают чемоданы презервативами, часами обмениваются в интернете грубыми и жестокими женоненавистническими наблюдениями, а потом летят на недельку-другую в Манилу или Бангкок, чтобы штурмовать там бордели и заниматься сексом почти без передышки, и все эти женщины, которые каждую ночь спят с новым мужчиной, а иногда и с несколькими в течение одной ночи. Что и говорить, человечество предстает тут не в самом выгодном свете.
И все-таки, насколько мне известно, бурный расцвет проституции не вызывает сколько-нибудь заметных общественных протестов в Таиланде. Не слышно требований что-то изменить или тем более запретить. Столь снисходительное отношение к сложившейся ситуации, когда тайские женщины сексуально обслуживают иностранцев, объясняется множеством причин. Например, такими: этот промысел приносит стране много иностранной валюты; проституцией промышляют в основном женщины из Иссана, этнические лаоски, до которых бангокскому обществу практически нет дела; в тех городах, где процветает проституция, она ограничивается несколькими улицами, куда большинство тайцев не ходят. Однако такое отсутствие возмущения со стороны общества нельзя полностью отделить от общего отношения тайцев к сексу, браку и моногамии, в корне отличного от воззрений христианского Запада.
“Во времена молодости моего деда в порядке вещей считалось иметь старших и младших жен, и часто старшая жена выбирала младших”, – рассказывал мне в 2007 году в Бангкоке Мечаи Виравайдья, представитель законодательной власти Таиланда и один из виднейших социальных реформаторов страны. О роли старшей жены Мечаи сказал: “Она являлась как бы главным распорядителем в семье. Если вы приходили в гости к богатому человеку, то видели жилой комплекс из шести домов: самый большой дом принадлежал старшей жене, а в каждом из остальных жило по младшей жене”. “Только с недавних пор у королей всего по одной жене”, – продолжал Мечаи, подчеркивая, что последние короли стали моногамными, отказавшись от многовековой традиции многоженства. Однако в некоролевских семьях очень распространен такой обычай: на похоронах мужа его старшая жена объявляет о существовании младшей жены и детей, о которых раньше никто даже не слышал. По тайскому закону мужчина может иметь только одну жену, но если у него рождаются дети от миа-нои, то эти дети (их называют кхао нок нах, или “рис, выросший за пределами поля”) обладают ровно такими же правами на наследство и пользование отцовской фамилией, что и дети, рожденные от законной жены. “Это скорее ответственность, чем верность, – сказал Мечаи, определяя главенствующую ценность. – Признавая свое отцовство, человек берет на себя ответственность”.
Клаузнер считает, что на тайских взглядах, возможно, сказывается влияние буддизма – в частности, буддистское понятие о карме, то есть представление о том, что поступки, совершенные человеком в прошлых жизнях, накапливаются и приводят к обстоятельствам его нынешнего существования. По мнению Клаузнера, вера в то, что условия жизни каждого человека являются следствием его (или ее) кармы, выливаются и в некий фатализм по отношению к другим, и в нежелание выносить моральные суждения. “Многие занимают такую позицию: “Кабы не милость Божия, такая же участь постигла бы и меня”,[22] – сказал он. – Они привычно смотрят на человека, находящегося в невыгодном положении, например на калеку или на проститутку, и думают: “Такова ее несчастная судьба, такова ее карма”.
А тот факт, что большинство проституток содержат на свои заработки родственников, также умаляет степень презрения, которое другие люди могли бы испытывать к ним, если бы те занимались этим ремеслом исключительно ради себя самих. “С буддийской точки зрения она обретает заслуги, помогая своим родителям, и эти заслуги помогают ей самой удачнее переродиться в следующей реинкарнации”, – сказал Клаузнер. И ее клиент, если он тоже буддист, понимает, что, хоть и использует ее для собственного удовольствия, все-таки помогает ей обрести эти заслуги. “Они мягко обходятся с проституткой, – продолжал Клаузнер. – Они дают ей деньги, помогают ей приобрести заслуги. У мужчин есть иной способ добиться этого – пойти в монахи и следовать двумстам двадцати семи правилам поведения. А для женщин такой путь закрыт – они хоть и могут уйти в обитель, но настоящего монашеского сана для них не существует. С западной точки зрения все это звучит как поиск разумного объяснения, однако из многих бесед, какие у меня были здесь в разные годы, я узнал, что и правительственные чиновники, и видные врачи и ученые ходят в массажные салоны, не испытывая ни малейших сомнений или угрызений совести”.
Конечно, это может походить на поиски разумного объяснения, и безусловно, это действительно похоже на разумное объяснение. Большинству из нас – во всяком случае тем, кто воспитан на сексуальной культуре христианства, – очень трудно относиться к сексу как к чему-то легкому и мимолетному, например, как игра в теннис или бокал вина. И разумеется, шумиха, которую мы поднимаем всякий раз, когда какую-нибудь важную персону, особенно политика, застают с женщиной, которая не является его женой, ясно указывает на то, что мы предъявляем совсем иные требования к поведению известных людей, чем тайцы. Значит ли это, что западный взгляд на проституцию как на особую разновидность несправедливости – как на исключительное несчастье, худшую из мыслимых форм унижения – применим всегда и везде, в том числе к ситуации в Таиланде? Или, быть может, сама постановка вопроса о том, как нужно к этому относиться, тоже служит своеобразным выражением исторического взаимодействия между сексуальными культурами Востока и Запада?
Моя точка зрения практическая: моральные суждения нельзя делать в какой-то отвлеченной или абсолютной плоскости, оторванной от конкретных условий, в которых существуют тайские женщины, оказывающие сексуальное гостеприимство иностранцам. Учитывая реальные жизненные альтернативы многих бедных таек, выбор, который они совершают, становясь проститутками, можно назвать разумным, причем, если смотреть под практическим углом, этот путь едва ли хуже, чем остальные пути, открытые им. Данную точку зрения красочно излагает Джон Бердетт, автор романа “Бангкокская татуировка”, где главный герой предостерегает иностранцев от “всех этих детских суждений” “о том, что наши работящие девушки – сексуальные рабыни и угнетенные жертвы культуры с господствующим мужским шовинизмом”. На самом деле, заявляет этот персонаж (полицейский и одновременно настоящий буддийский святой), “деревенские девушки, выносливые, как буйволицы, дикие, как лебеди, сами едва верят, сколько же денег можно заработать, оказывая вежливым, благосклонным, богатым, полным чувства вины и не забывающим пользоваться презервативами фарангам ровно те самые услуги, которые им все равно приходилось бы оказывать бесплатно и без предохранения своим грубым, пьяным, охочим до шлюх мужьям у себя в родной деревне”.
Такому мнению вторит и Мечаи, владеющий сетью ресторанов, гостиниц и других деловых предприятий, которые собирают деньги на сельскохозяйственное развитие самых бедных районов Таиланда, откуда родом большинство девушек из баров. “А почему вообще продажный секс – это плохо?” – спрашивал он, указывая на то, что взгляды христианского Запада, объявляющего внебрачный секс смертным грехом, – это произвольное навязывание чужеземных ценностей, причем навязывание этих ценностей не способно ни на йоту улучшить жизнь ни одной тайки. Многие женщины, будь у них выбор, предпочли бы заниматься совсем не тем, чем им приходится заниматься, причем неважно, работают ли они официантками, гнут ли спину над жижей тропического рисового поля или служат танцовщицами-проститутками в “Энджел-Уитч”. Большинство женщин, наверное, предпочли бы быть университетскими преподавателями или женами богачей, но едва ли можно найти проститутку, перед которой стоял бы такой выбор. “Неужели это хуже, чем продавать оружие? – сказал Мечаи, отстаивая нравственность и порядочность девушек, которые решились зарабатывать на жизнь продажей сексуальных услуг. – Они ведь ни в кого не стреляют. Они просто из бедности торгуют собственным телом”.
Надо отметить, что Мечаи впервые прославился в Таиланде тем, что вставал у входа в бары и раздавал посетителям презервативы, поощряя безопасный секс. Сеть его ресторанов и гостиниц, очень популярных среди иностранцев, называется “Капуста и кондом”. В этих ресторанах всем клиентам выдают презервативы – на тот случай, если кто-то решит сразу после ужина приступить к сексу.
“Это очень по-западному – видеть что-то дурное в продажном сексе”, – говорит Мечаи. Он признает, что и в самом Таиланде “общество ведет себя очень лицемерно”. Тайцы, говорит он, стесняются того, что их страна сделалась знаменитейшим центром секс-туризма, отчасти потому, что помимо своей воли видят самих себя уже сквозь призму западных стандартов, и их заботит репутация страны. В то же время, если не считать вмешательства в некоторые стороны сексуального промысла, в частности преследования педофилов и банд, которые втягивают в проституцию малолетних детей, они пускают все на самотек. И конечно же, не надо забывать о том, что все это приносит стране деньги. “Что лучше, – спрашивает Мечаи, – иностранная помощь, поступающая напрямую в виде выручки за секс, или иностранная помощь через правительство, которая все равно никогда не доходит до народа?”
В любом случае, как мы видели, это очень длинная история, уходящая корнями, наверное, к случаю с тем португальским моряком, который высадился в 1543 году на острове Танегасима и заполучил дочь местного оружейника в обмен на секрет изготовления аркебузы. Таким был и остается мир. Это свидетельствует как минимум о могучей силе желания, которое привело к заселению нашей планеты, – желания, которое одних людей сводит с ума, а других делает мудрее. Это желание западного мужчины пережить миг безумной, первобытной, возвышенной близости с изящным благоуханным существом вдали от суда неблагосклонного Бога и от власти преград и наказаний, царящих на родине.
Благодарности
Мне хочется поблагодарить (в произвольном порядке) следующих людей: Сет Майданс из редакции “Нью-Йорк таймс” в Бангкоке и Фрэнсиса Дерона из “Ле Монд” (в том же городе); Цинь Ливень и Хуана Юаньси из Пекина; Дейва Смита из Нью-Йоркской публичной библиотеки; Кристину Шварц, Ричарда Холбрука, Бена Скиннера и Чо Янсук из Нью-Йорка, а также Майкла Джорджа, который приехал ко мне благодаря щедрости программы поддержки исследований им. Хертога при Колумбийском университете; Суада Мехеннета из Франкфурта; Дафну Англь и Майю де ла Бом из Парижа; Джима Магуайра из Уилтона (Коннектикут); Кристиан Аппи из Массачусетского университета (Амхерст); Паскаля “Рона” Политано из Бунвила (Нью-Йорк) и Нгуена Нгока Луонга из Хошимина. Я также благодарен Никки Ассаваторн, Дину Барретту, Хане Бич, Алану Досону, Денису Грею, Уильяму Клаузнеру, Эрику Ларсену, Джиму Одену, Лесу Страузу, Чулани Тхиантхай, Воранаи Ваниджаке, Мечаи Виравайдье и Джейн Вонгаканит из Таиланда. Мои благодарности Джиму Рекнеру из незаменимого Вьетнамского центра и архива при Техасском техническом университете в Лаббоке (Техас) и Стиву Макснеру из этого же учреждения.
Как всегда, есть два человека, которым я бесконечно обязан: я горячо благодарю Джонатана Сигала, моего издателя в “Кнопфе”, за неизменную поддержку, поощрение, критические замечания и дружбу, а также моего литературного агента, Кейти Роббинс, которая протолкнула на свет божий уже четыре мои книги. Спасибо, толкайте и дальше! Еще я выражаю признательность Сонни Мета, главному редактору “Кнопфа”, который проявлял неустанный интерес к данной книге (несмотря на четырехлетнюю проволочку, вызванную моей занятостью на постоянной работе), а также Джои Макгарви, тоже из “Кнопфа”, и, конечно же, Абигайль Виноград, превосходному литературному редактору.
Работая над данной темой, я ознакомился с множеством книг и статей. Я глубоко признателен тем ученым и писателям, чьи исследования послужили мне большим подспорьем и источником информации. Хотелось бы специально упомянуть несколько работ, имеющих особую ценность: это “Империя и сексуальность: британский опыт” Рональда Хайама; “Воображаемые гаремы: образы западной живописи и литературы” Рут Бернард Йизелл; “Флобер в Египте: чувствительность в пути” под редакцией Фрэнсиса Стигмюллера; “Капитан сэр Ричард Эдвард Бёртон: биография” Эдварда Райса; “Гонит бес: жизнь Ричарда Бёртона” Фон М. Броуди; “Сексуальная жизнь в Древнем Китае: предварительный обзор секса и общества приблизительно от 1500 г. до н. э. до 1644 г. н. э.” Роберта Ханса ван Гулика; “Межрасовые интимные связи в Японии: западные мужчины и японки, 1543–1900” Гэри П. Льюппа; “В роли пораженной стороны: Япония после Второй мировой войны” Джона Дауэра, а также несколько очерков Уильяма Далримпла. Кроме того, чрезвычайно важной для моих исследований оказалась уникальная коллекция устных интервью, собранных Вьетнамским архивом.
И наконец, особых слов благодарности заслуживает Чжунмэй Ли – мое личное воплощение Востока. Ее поддержка, ее подсказки, ее терпение были поистине драгоценными, а ее присутствие рядом со мной наделяет смыслом все мои поиски.
Примечания автора
Глава 1. Богема у себя дома и на чужбине
“Китайские нувориши…”: Craig S. Smith, “Design Dispatch: Shanghai Discovers its Inner Paris”, New York Times, 14 ноября 2002.
“Профессор Чжан написал научное исследование…”: Чжан Цзехай, “Подробный доклад о психологических проблемах китайцев” – по-китайски в: NetEase, www.talk.163.com/06/0805/12/2Q8VA0030/HJ.html.
“связей с гражданами Китая противоположного пола…”: Jerome A. Cohen, “Sex, Chinese Law, and the Foreigner”, Hong Kong Law Journal 18, no.1 (1988): 102.
знает каждый школьник…: Frederic Wakeman, Jr., Strangers at the Gate: Social Disorder in South China, 1838–1861. (Berkeley: University of California Press, 1966). P. 21.
“двух очень смазливых девчонок”: Уильям Хикки, цитируется у Rupert Faulkner, “Personal Encounters: Europeans in East Asia” в: Encounters: The Meeting of Asia and Europe, 1500–1800, ed. Anna Jackson and Amin Jaffer. London: Victoria and Albert Museum, 2004). P. 179.
“ксенофобии и сексуальной истерии…”: Wakeman, Strangers at the Gate. P. 56.
препятствует возрастанию военной мощи…: Frank Dikötter, Sex, Culture and Modernity in China: Medical Science and the Construction of Sexual Identities in the early Republican Period. Honolulu: University of Hawaii Press, 1995. P. 18.
Некоторые китайские социальные реформаторы…: Gail Hershatter, Dangerous Pleasures: Prostitution and Modernity in Twentieth-Century Shanghai. Berkeley: University of California Press, 1997). P. 245.
“Лишь мягкое, вежливое обращение…”: Dikötter, Sex, Culture and Modernity. P. 53.
Некоторые реформаторы-радикалы говорили о необходимости…: там же. P. 109–111.
“яд сливы…”: там же. P. 126.
сифилисом болело втрое больше людей, чем в Соединенных Штатах…: там же. P. 129.
“позволяло взвалить всю вину…”: там же. P. 130.
“Само заглавие…”: Ernest O. Hauser, Shanghai: City for Sale. New York: Harcourt, Brace, 1940.
особенно… газета “Цзинбао”…: Hershatter, Dangerous Pleasures. P. 17.
Опросы, проводившиеся в 1935 году…: там же. P. 39.
проституцией занималась каждая третья…: Frederic Wakeman Jr., Policing Shanghai, 1927–1937. Berkeley: University of California Press, 1995. P. 109.
Низшую ступень: Hershatter, Dangerous Pleasures. P. 49–50.
Мао… поставляли сексуальных партнерш…: Ли Чжисуй, “Мао Цзедун. Записки личного врача”, М.: ИнтерДайджест, 1996.
“Культурная революция” провозглашала…”: там же.
“и там, и в других помещениях…”: там же.
партийным вождям приходилось полагаться…: Liu Heung Shing, ed., China: Portrait of a Country. Tokyo: Taschen, 2008. P. 236.
даосский учебник секса…: Ли Чжисуй. Мао Цзедун. Записки личного врача. М.: ИнтерДайджест, 1996.
“чьи проступки окажутся серьезнее…”: веб-сайт Китайского новостного агентства, 29 апреля 2007 года.
одинаково привлекал и миссионеров, и распутников…: Ian Buruma, Missionaries and Libertines: Love and War in East and West. New York: Random House, 2000.
Глава 2. Весь мир как бордель для белых
огромное количество этих людей…: цитируется у Ronald Hyam, Empire and Sexuality: The British Experience. Manchester, U. K.: Manchester University Press, 1990). P. 91.
умаляет славу и престиж империи…: там же. P. 71.
“превращение всего мира в бордель для белых…”: там же. P. 148.
“Западный рыцарь…”: Paul Rycaut, The Present State of the Ottoman Empire. London: John Starkey and Henry Brome, 1668. P. 104.
“Для идеала любви…”: Йохан Хёйзинга, “Осень Средневековья”, М.: Прогресс; Культура, 1995.
“влечение к прекрасной жизни…”: там же.
“Стихийный пыл…”: Denis de Rougemont, Love in the Western World, trans. Montgomery Belgion. New York: Harcourt, Brace, 1940. P. 37.
“целовать и обнимать…”: Andreas Capellanus, The Art of Courtly Love, trans. John Jay Parry. New York: Columbia University Press, 1990. P. 122.
На монетах было отчеканено…: George C. Brauer Jr., preface to Judea Weeping: The Jewish Struggle against Rome from Pompey to Masada, 63 B. C. to A. D. 73. New York: Thomas Y. Crowell, 1970.
“И если у господина…”: Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные страны. Книга Марко Поло. М.: Мысль, 1997.
“Человекоубийство они…”: там же.
“во всей Индии женщины”: Франсуа Пирар цитируется у Owen Lattimore and Eleanor Lattimore, eds., Silk, Spices, and Empire: Asia Seen through the Eyes of Its Discoverers. New York: Delacorte Press, 1968. P. 154.
“человек, носивший имя Мандевиля…”: John Mandeville, The Travels of Sir John Mandeville, trans. and ed. C. W. R. D. Moseley. New York: Penguin Classics, 1983. P. 10.
“Христофор Колумб читал… Рабле читал…”: там же. P. 9.
“Люди в той стране…”: там же. P. 157.
“Есть другой прекрасный… остров…”: там же. P. 175.
“Там считают…”: там же. P. 176.
“Властелин ведет великолепную жизнь…”: там же. P. 187.
“Законных жен у него четыре…”: Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные страны. Книга Марко Поло. М.: Мысль, 1997. назначали “знатоков”…: там же.
“Сводни – это антиматери…”: Simon Schama, The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age. New York: Alfred A. Knopf, 1987. P. 467.
Отступление первое. Янсук
“известная актриса…”: Choe Sang-hun, “Koreans Agog as Off-Screen Soap Becomes Courtroom Drama”, New York Times. May 19. 2008.
Глава 3. Этот прохвост Лодовико
“Рыцарь и его дама сердца…”: Йохан Хёйзинга, “Осень Средневековья”, М.: Прогресс, Культура, 1995.
“охраны девичьей целомудренности…”: там же.
“в первые ряды…”: Richard F. Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Madinah and Mecca. London: George Bell & Sons, 1906. P. 2:337.
“подчинялась мавританскому владыке…”: Ludovico de Varthema, The Itinerary of Ludovico di Varthema of Bologna, trans. John Winter Jones. 1863; repr. New Delhi, India: Asian Educational Services, 1997. P. 25.
“псом-христианином…”: там же. P. 60.
“добрым мавром…”: там же. P. 62.
“одной из трех жен…”: там же. P. 65.
“следует притворяться сумасшедшим…”: там же.
“Будучи умной женщиной…”: там же. P. 31.
“словно на какую-нибудь нимфу…”: там же.
“Я дам собственную голову на отсечение…”: там же. P. 70.
“Я бы уже никогда не смог…”: там же.
“Если ты будешь угождать мне…”: там же. P. 72.
“яйца, курятину, голубей…”: там же.
“принес обет Аллаху и Магомету…”: там же. P. 33.
“пристрастие аравийских женщин…”: там же. P. 65.
“золото и серебро, лошадей и рабов…”: там же. P. 70.
Глава 4. Гарем в западном сознании
“Сам Великий Правитель…”: Paul Rycaut, The Present State of the Ottoman Empire. London: Cleave, 1701. P. 4.
“Всякий раз, как на Великого Правителя…”: там же. P. 18.
“из них уже отбирались…”: там же.
Евнухи были просто необходимы…: там же.
“не ведают границ в запретных постельных утехах…”: Мартин Лютер, цитируется в: Silke R. Faulkner, “‘Having It Off’ with Fish, Camels, and Lads: Sodomitic Pleasures in German-Language Turcica”, Journal of the History of Sexuality 13. No. 4. October 2004. P. 408.
“ни малейших признаков…”: там же. P. 406.
“воплощение разнузданной тирании…”: Leslie P. Peirce, The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. New York: Oxford University Press, 1993. P. 114.
гарем часто служил…: См. книгу Ruth Bernard Yeazell’s Harems of the Mind: Passages of Western Art and Literature. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000, где собраны репродукции шедевров европейского изобразительного искусства, вдохновленные темой турецкого гарема, и проделан их подробный научный анализ.
“монастырской чувственности…”: там же. P. 228.
“не ведал того, что изображал…”: там же. P. 91.
“Каждому турку позволено…”: Rycaut, The Present State of the Ottoman Empire. P. 59.
“Слово гарем”: Peirce, The Imperial Harem. P. 5.
гораздо больше походило…: там же. P. 6.
“гнездо мусульманского разврата…”: там же. P. 7.
один итальянец…: там же. P. 120.
правитель в целях…: там же. P. 87.
многие считали… колдуньей…: там же. P. 63.
возвышая невольницу…: там же. P. 41.
“Я не только расскажу…”: Aaron Hill, A Full and Just Account of the Present State of the Ottoman Empire. London: John Mayo, 1710. P. 149.
рассказ Райкота…: там же. P. 171.
заметной фигурой в литературном мире…: William W. Appleton and Kalman A. Burnim, eds., The Prompter: A Theatrical Paper by Aaron Hill and William Popple. New York: Benjamin Blom, 1966. P. vii.
вдохновляли на создание…: Yeazell, Harems of the Mind. P. 36.
“Когда муж проявляет…”: там же. P. 16.
Монтегю называла “сказочным вымыслом”…: там же. P. 18.
“прекрасной девице…”: там же. P. 37–38.
сетовала на “чрезмерную глупость”…: там же. P. 84.
“единственными в мире женщинами…”: там же.
этот “постоянный маскарад”…: там же. P. 85.
“особенной церемонии…”: там же. P. 19.
“имевшая доступ к запретным “Обителям Блаженства”…: там же. P. 20.
“превосходно защищены от…”: там же. P. 89.
“связывали с ними не сексуальную свободу…”: там же. P. 89.
“страной загадок и тайн…”: Жерар де Нерваль, “Путешествие на Восток”, М.: Наука, 1986.
“Прекрасные пальчики…”: там же.
Отступление третье. Осуществление фантазий
“мечту о беспредельных возможностях…”: Ruth Bernard Yeazell, Harems of the Mind: Passages of Western Art and Literature. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000. P. 99.
“Как будто альтернатива моногамии…”: там же.
Глава 5. Вечная мечта о Клеопатре
“садятся на корабли, идущие в Джидду…”: Gustave Flaubert, Flaubert in Egypt: A Sensibility on Tour; A Narrative Drawn from Gustave Flaubert’s Travel Notes & Letters, ed. and trans. Francis Steegmuller. Boston: Little, Brown, 1972. P. 201.
“целый гарем под покрывалами…”; “Это было одно…”: там же. P. 201, 202.
“установившуюся между Востоком…”: Edward W. Said, Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978. P. 190.
“Возможно, это признак извращенного вкуса…”: Flaubert, Flaubert in Egypt. P. 9–10.
“Следующие два дня…”: там же. P. 21.
“ростом почти в шесть футов…”: там же. P. 9.
“О, сколь охотно…”; “юношеским “ориентальным” угаром…”: там же. P. 11.
“Я опасаюсь головокружения…”; “Столь “по-э-тические” впечатления…”: там же. P. 50, 51.
“были особенно подвержены…”: Ruth Bernard Yeazell, Harems of the Mind: Passages of Western Art and Literature. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000. P. 236.
“кусал кончик сигары…”; “одиннадцать дней в качке и тряске…”: Flaubert, Flaubert in Egypt. P. 26.
“Психологическое, человеческое, забавное…”: Гюстав Флобер. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. М.: Художественная литература, 1984.
“лихорадочным и пьянящим…” и далее: там же.
Глава 6. Просвещение из Индии
“под крышей фанатичного князька…”: Richard Francis Burton, First Footsteps in East Africa. 1856; repr., Whitefish, Mont.: Kessinger Publishing, 2004. P. 126.
“узреть свет…”: там же. P. 125.
“На груди у них вытатуированы звезды…”: там же. P. 133.
“пускается в ход влагалищная мышца…”: Richard Francis Burton, A Thousand Nights and a Night. The Burton Club for Private Subscribers only, 1885. P. 4:227.
“Хиг арабы называют “салаб”…”: Burton, First Footsteps in East Africa. P. 100.
“понятия “совесть”…”: там же. P. 74.
йеменки смеются над сомалийками…: там же. P. 57.
“кто, как не Бертон…”: Edward Rice, Captain Sir Richard Francis Burton: A Biography. New York: Charles Scribner’s Sons, 1990. P. 236.
“сомалийцы знают лишь один способ…”: там же. P. 237.
“этого варварского метода…”: там же. P. 237.
“Те, кто боится…”: там же. P. 238.
“Век прекрасного пола…”: Burton, First Footsteps in East Africa. P. 57.
“Я уже позабыл столько…”: Richard Francis Burton, Love, War, and Fancy: The Customs and Manners of the East, from Writings on the Arabian Nights, ed. Kenneth Walker. New York: Ballantine Books, 1964. P. 15.
“смакование животного существования…”: Richard Francis Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Mecca. London: George Bell & Sons, 1906. P. 1:9.
о нескольких местных жителях…: Fawn M. Brodie, The Devil Drives: A Life of Richard Burton. New York: W. W. Norton, 1984. P. 63.
“Мошонку неизувеченного мальчика…”: Richard Francis Burton, “Terminal Essay”, from A Thousand Nights and a Night. P. 10:205.
“вынужденный привал…”: Gustave Flaubert, Flaubert in Egypt: A Sensibility on Tour; A Narrative Drawn from Gustave Flaubert’s Travel Notes & Letters, ed. and trans. Francis Steegmuller. Boston: Little, Brown, 1972. P. 109.
“Половые органы отсекают…”: Ричард Фрэнсис Бертон, цитируется у Brodie, The Devil Drives. P. 126.
с кожей…: Burton, First Footsteps in East Africa. P. 86.
“У него возникло убеждение…”: Brodie, The Devil Drives. P. 86.
“случаем увидеть “Аль-наль”…”: Burton, Pilgrimage to Al-Madinah and Mecca. P. 11.
делается вывод…: Rice, Captain Sir Richard Burton. P. 182.
“искуснейшими соблазнительницами…”: там же. P. 235.
“Именно потому, что большинство…”: Peter Gay, The Bourgeois Experience: Victoria to Freud, vol. 5, The Pleasure Wars. New York: W. W. Norton, 1999. P. 7.
“нарочитая пристойность…”: Peter Gay, The Bourgeois Experience: Victoria to Freud, vol. 2, The Tender Passion. New York: W. W. Norton, 1999. P. 4.
“Половой акт считался…”: Ronald Pearsall, The Worm in the Bud: The World of Victorian Sexuality. London: Pimlico, 1969. P. xi.
Мастурбация, писал он…: Уильям Эктон, цитируется в: Steven Marcus, The Other Victorians: A Study of Sexuality and Pornography in Mid-Nineteenth Century England. New York: Basic Books, 1964. P. 19.
удовлетворение сексуальных потребностей…: там же. P. 18.
“лучшие матери…”: William Acton, The Functions and Disorders of the Reproductive Organs in Childhood, Youth, Adult Age, and Advanced Life. Philadelphia: P. Blakeston Son, & Co., 1894. P. 209–210.
“количество борделей в Лондоне…”: Ronald Hyam, Empire and Sexuality: The British Experience. Manchester, U. K.: Manchester University Press, 1990. P. 60.
Генеральный прокурор середины века…: Pearsall, The Worm in the Bud. P. 384.
а один известный издатель…: там же.
“Мы совершили бы грубую ошибку…”: Gay, The Tender Passion. P. 4.
в случае заражения принудительно помещать…: Marcus, The Other Victorians. P. 3.
“непроходимую тупость…”: Уильям Эктон, цитируется там же. P. 4–5.
“Предвкушение книги…”: Ричард Фрэнсис Бертон, цитируется в: Pearsall, The Worm in the Bud. P. 372.
англиканский епископ Калькутты…: M. J. Akbar, “Open to All Interests, Subject to None”. Hindu (Chennai, India). January 29. 2005.
“все обязанности жены…”: виконт Вулзли, цитируется в: Hyam, Empire and Sexuality. P. 118.
он страстно коллекционировал эротику…: Marcus, The Other Victorians. P. 37.
“Моя тайная жизнь…”: Brodie, The Devil Drives. P. 295.
“вторым де Садом…”: Генри Эшби, цитируется в: Marcus, The Other Victorians. P. 37.
“наше невежество в области афродизиаков…”: Richard F. Burton, Sindh and the Valley of the Indus. Oxford: Oxford University Press, 1973. P. 146.
“презрительно сравнивают…”: Richard F. Burton, Ananga Ranga, or the Hindu Art of Love. Benares, The Kama Shastra Society, 1885. P. 404.
“Принятые среди дикарей…”: Richard F. Burton, Supplemental Nights to the Book of a Thousand and One Nights. Benares: The Kama Shastra Society, 1887. P. 4:404.
“мусульмане, изо всех сил подрывающие…”: Ричард Ф. Бертон, цитируется в: Brodie, The Devil Drives. P. 186.
“некоторые матери – такие идиотки…”: Richard F. Burton, A Thousand Nights and a Night. P. 10:42.
“завалили ответами…”: Rice, Captain Sir Richard Francis Burton. P. 456.
“Распутные женщины предпочитают негров…”: Richard F. Burton, A Thousand Nights and a Night. P. 1:6.
Али-Шара и девушки-рабыни…: “Тысяча и одна ночь”. М.: Художественная литература, 1988.
“Сорок семь лет я бился…”: Ричард Ф. Бертон, цитируется в: Brodie, The Devil Drives. P. 309.
Глава 7. Колониализм и секс
беззаботная жизнь португальского поселенца…: William Dalrymple, “Personal Encounters: Europeans in South Asia”, in Encounters: The Meeting of Asia and Europe, 1500–1800, ed. Anna Jackson and Amin Jaffer. London: Victoria and Albert Museum, 2004. P. 158.
“приятным устройством общества…”: там же.
португальцы превращаются в гоанцев…: там же.
о некоем Джоне Личленде…: там же. P. 369.
он, по определению Берка, способствовал…: Nancy L. Paxton, Writing under the Raj: Gender, Race, and Rape in the British Colonial Imagination, 1830–1947. New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 1999. P. 1–2, 37–38.
“Девственниц, никогда не видевших солнца…”: Эдмунд Берк, цитируется там же, 2.
письмо Клайву…: Ronald Hyam, Empire and Sexuality: The British Experience. Manchester, U. K.: Manchester University Press, 1990. P. 28.
поблизости жила его любовница-индианка…: M. J. Akbar, “Open to All Interests, Subject to None”. Hindu (Chennai, India). January 29. 205.
чтобы того кастрировали…: Hyam, Empire and Sexuality. P. 28.
Клайв несомненно принадлежал…: Lawrence James, Raj: The Making and Unmaking of British India. New York: St. Martin’s Press, 1997. P. 45–49.
“люди, отвечавшие за Индию”: Lawrence James, The Rise and Fall of the British Empire. New York: St. Martin’s Press, 1994. P. 135. “величайшим зрелищем…”: Dalrymple, “Personal Encounters”. P. 160.
тринадцать жен…: там же. P. 168.
“мужчина… с развратными наклонностями…”: Hyam, Empire and Sexuality. P. 88.
“беспорядочные и рискованные…”: James, Raj. P. 139.
главный британский военный врач Бомбея…: Kenneth Ballhatchet, Race, Sex, and Class under the Raj: Imperial Attitudes and Policies and Their Critics, 1793–1905. London, Weidenfeld and Nicolson, 1980. P. 10.
“попыткой сделать грех безопасным…”: там же. P. 19.
Один исследователь насчитал…: Hyam, Empire and Sexuality. P. 123.
“Империя была Молохом…”: там же. P. 91.
Лучшие проститутки…: Edward Sellon, The Ups and Downs of Life. London: William Dugdale, 1867; Ware, U. K.: Wordsworth Classics, 1987. P. 55–56.
“понимают в совершенстве…”: там же. P. 56.
“Если полковник-сахиб…”: там же. P. 48.
“я начал регулярно…”: там же. P. 55.
“К 1936 году…”: Frederic Wakeman Jr., Policing Shanghai, 1927–1937. Berkeley: University of California Press, 1995. P. 108. “даже предоставляло… клиентам…”: там же. P. 98.
“провозглашенными основаниями…”: China Weekly Review. 5 января 1929 года, цитируется там же. P. 110.
Лига Наций, объявившая…: там же. P. 113.
“В настоящее время наблюдается тенденция”: China Weekly Review. 23 января 1932 года, цитируется там же. P. 13–14.
“Шанхай предлагал холостяку…”: Ernest O. Hauser, Shanghai: City for Sale. New York: Harcourt, Brace, 1940. P. 261.
“играли важную роль…”: Hyam, Empire and Sexuality. P. 1.
“Экспансия Европы…”: там же. P. 2.
“порочной столицей мира…”: Frederic Wakeman Jr., Policing Shanghai. P. 115.
“Несть числа таким мужчинам…”: Эдвард Лонг, цитируется в: Hyam, Empire and Sexuality. P. 92.
“Не бывает рабства…”: Жилберту де Мелу Фреру, цитируется там же. P. 93.
В голландской колонии Кейптаун…: там же.
“Если вы попадете в беду…”: Alexander Barton Woodside, Community and Revolution in Modern Vietnam. Boston: Houghton Mifflin, 1976. P. 10.
официально поощряла браки…: Hyam, Empire and Sexuality. P. 116.
“на смену традиционному…”: Кристель Таро, “Проституция и колонизация в Магрибе”, неопубликованная работа, предоставленная автору.
сексуальные порядки, бытовавшие в Алжире до прихода французов…: там же.
Они отменили рабство…: там же.
“случай низшей цивилизации…”: там же.
“Французы прибыли в Алжир…”: Эрнест Фейдо, цитируется там же.
“ту сладостную мечту”: Malek Alloula, The Colonial Harem, trans. Myrna Godzich and Wlad Godzich. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986. P. 3.
“бесчестной и бесчестящей…”: там же. P. 4.
Отступление четвертое. Тайная жизнь в Алжире и Париже
“Некоторое время позволялось абсолютно все…”: Alain Ruscio, “Amours, relations, mariages dans le Maghreb colonisé: de la littérature à la réalité”, contribution à la Journeé d’Etudes de la Société des amis d’Ismaÿl Urbain et d’études Saint-Simoniennes. 25 janvier 2003. Houilles, Public, SAIU-SESS, 2004.
родства с “эстетикой фашизма”…: Mary Ann Frese Witt, The Search for Modern Tragedy: Aesthetic Fascism in Italy and France. Ithaca, N. Y: Cornell University Press, 2001. P 17–18, 195–201.
Монтерлана обвинили в сотрудничестве с врагом…: там же. P. 204.
Поэт У. Х. Оден… ввел в обиход…: Jonathan Freyr, André & Oscar: Gide, Wilde and the Gay Art of Living. London: Constable, 1997. P 106–107.
экстатический эпизод…: там же. P. 117–120.
Кеннета Сирайта, капитана британской армии…: Ronald Hyam, Empire and Sexuality: The British Experience. Manchester, U. K.: Manchester University Press, 1990. P 131.
педерастия еще никогда не играла…: Roger Peyrefitte, Propos Secrets. Paris: Albin Michel, 1977. P 56 (перевод на английский мой).
Монтерлан вызвал полицию…: там же. P. 53–58.
Если верить Пейрефитту…: там же. P. 53.
“каждый день он подвергается новому риску…”: Pierre Sipriot, Montherlant sans masque, vol. I, L’enfant prodigue. Paris: Robert Laffont, 1982. P 290 (все переводы на английский – Кристин Шварц Хартли).
“стоит только улыбнуться… ” и далее: там же.
Один литературовед насчитал…: Alain Ruscio, “Amours, relations, mariages dans le Maghreb colonisé”.
“надоела грубая жизнь… ”: там же.
военный врач привязывается…: там же.
“самоубийство Монтерлана…”: Peyrefitte, Propos Secrets. P. 78.
Глава 8. Восточный парадокс
Министр образования Раджастана…: Amelia Gentleman, “Sex Education Curriculum Angers Indian Conservatives”, International Herald Tribune. May 24. 2007.
“религиозность, метафизика…”: William Dalrymple, “India: The Place of Sex “, New York Review of Books. June 26. 2008.
“и желание было у Бога…”: там же.
“Миссионеры, – писал… Иэн Бурума…”: Ian Buruma, Missionaries and Libertines: Love and War in East and West. New York: Random House, 2000.
“свобода половых сношений…”: Эдвард Уильям Лейн, цитируется в: Edward W. Said, Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978. P. 167.
“загадочные руины…”: там же. P. 170.
“Итак, Восток представлялся местом…”: там же. P. 190.
“Отчего Восток…”: там же. P. 188.
“целая паутина…”; “где можно исполнить…”; “иной тип сексуальности…”: там же. P. 190.
“вводи его медленно…” и далее: цитируется в: Fang Fu Ruan, Sex in China: Studies in Sexology in Chinese Culture. New York: Plenum Press, 1991. P. 30.
“Хроники зеленых беседок…”: Robert Hans van Gulik, Sexual Life in Ancient China: A Preliminary Survey of Sex and Society from ca. 1500 B. C. till 1644 A. D. Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1961. P. 252.
“Твоя работа – удовлетворять…”: цитируется в: Ruan, Sex in China. P. 73.
зарегистрированных публичных дома…: там же. P. 72.
изящную, с покачиваниями, походку…: Howard S. Levy, Chinese Footbinding: The History of a Curious Erotic Custom. London: Neville Spearman, no date. P. 32.
“жалость и вожделение…”: там же. P. 34.
“предки могут ослабеть…”: Van Gulik, Sexual Life in Ancient China. P. 13.
По свидетельству Матиньона…: там же. P. 255.
уроженец Шри-Ланки…: Gananath Obeyesekere, The Apotheosis of Captain Cook: European Mythmaking in the Pacific. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1992. P. 19.
“даже не удосужившись…”: Marshall Sahlins, How “Natives” Think: About Captain Cook, for Example. Chicago: University of Chicago, 1995. P. 148, 163.
Глава 9. Что случилось с гаремом?
все старые мечети и монастыри…: Jadunath Sarkar, History of Aurangzeb. Calcutta, India: M. C. Sarkar & Sons, 1912–16. P. 3:92–103.
“изобретатели всяких новшеств…”: там же. P. 3:93.
Акбар отмечал индуистские праздники…: John Keay, India: A History. New York: Atlantic Monthly Press, 2000. P. 313.
“наша религия – возвышенная…”: Уильям Уилберфорс, цитируется в: James, Raj. P. 224.
“Разве сторож я…”: Сэмюэль Уилберфорс, цитируется там же. P. 229.
“грубейшей и глупейшей…”: там же. P. 228.
как он выразился, с “невидимками”…: Marthal Nalini, “Gender Dynamics of Missionary Work in India and Its Impact on Women’s Education: Isabella Thoburn (1840–1901) – A Case Study”, Journal of International Women’s Studies 7. No.4. May 2006. P. 286. “ограждать учениц от разлагающего влияния…”: там же. P. 273. к “выходу в большой мир…”: Изабелла Тоберн, цитируется там же. P. 278.
Говорят, что он пользуется…: там же. P. 285–286.
“Выдай я миллион долларов…”: Бенджамин Гаррисон, цитируется там же.
“И я говорю: ни кто иной…”: Лилавати Сингх, цитируется в: Sherwood Eddy, Pathfinders of the World Missionary Crusade. Manchester, N. H.: Ayer Publishing, 1945. P. 95.
“последнего образца…”: цитируется в: Rosie Llewelyn-Jones, A Fatal Friendship: The Nawabs, the British, and the City of Lucknow. New Delhi, India: Oxford University Press, 1985. P. 5.
“монументальное великолепие Дели…”: Keay, India. P. 433.
“скопление дворцов…”: цитируется в: Veena Talwar Oldenburg, The Making of Colonial Lucknow, 1856–1877. Princeton, N. J.: Princeton Ubiversity Press, 1984. P. 11.
“так и роились…”: Keay, India. P. 435.
Феликс Роттон: Llewelyn-Jones, A Fatal Friendship. P. 31.
“питал врожденное пристрастие” и далее: Abdul Halim Sharar, Lucknow: The Last Phase of an Oriental Culture, trans. and ed. E. S. Harcourt and Fakhir Hussain. London: Paul Elek, 1975.
дома, плодовые сады, фабрики…: Veena Talwar Oldenburg, “Lifestyle as Resistance: The Case of the Courtesans of Lucknow, India”, Feminist Studies 16. No. 2. Summer 1990. P. 159–160.
“Общение с куртизанками…”: Sharar, Lucknow. P. 192.
“Навязывание правил…”: Oldenburg, The Making of Colonial Lucknow. P. 260.
Она находила Лакхнау…: J. M. Thoburn, The Life of Isabella Thoburn. New York: Eaton and Mains, 1903. P. 85–86.
“против которых мало кто из женщин…”: там же. P. 81.
“Этот уклад…”: там же. P. 81.
“роскошной праздности…”: там же. P. 190.
“долгая ночь викторианской морали…”: Llewelyn-Jones, A Fatal Friendship. P. 36.
“В “Лал Багх”…”: цитируется в: Nalini, “Gender Dynamics of Missionary Work in India”. P. 235.
Среди выпускниц…: там же. P. 283.
“Лихаф” рассказывает о юной невесте…: Priyamvada Gopal, Literary radicalism in India: Gender, Nation and the Transition to Independence. New York: Routledge, 2005. P. 66.
“Женские колледжи…”: Susan Seymour, “College Women’s Aspirations: A Challenge to the Patrifocal Family System”, in Women, Education, And Family Structure in India, ed. Carol Chapnick Mukhopadhyay and Susan Seymour. Boulder, Colo.: Westview Press, 1994. P. 214.
“На образование начали смотреть…”: там же.
“То, что еще оставалось от старого Лакхнау…”: William Dalrymple, “A City Lost to the Forces of Darkness”, New Statesman. December 18. 1998. P. 32.
Глава 10. Вынужденная вежливость Японии
“угрожающей, мужественной силы…”: John W. Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York: W. W. Norton, 1999. P. 130.
В индивидуальном порядке…: там же.
в своих душераздирающих мемуарах…: Philip Caputo, A Rumor of War. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1977. P. 47–48.
“Сексуальные последствия…”: Dower, Embracing Defeat. P. 124–125.
“сластолюбие местных жителей…”: Таунсенд Харрис, цитируется в: Gary P. Leupp, Interracial Intimacy in Japan: Western Men and Japanese Women, 1543–1900. New York: Continuum International, 2003. P. 147.
“О-Кичи наших дней…”: Dower, Embracing Defeat. P. 126.
“Мы не пятнаем нашу чистоту…”: там же.
Одна девятнадцатилетняя девушка…: там же. P. 129.
“Панпан, гуляющая под руку…”: там же. P. 135.
в беседе с репортером…: Seth Mydans, “An Ageless Saigon Basks in Peace”, New York Times. May 1. 2000.
первый известный сексуальный контакт…: Leupp, Interracial Intimacy in Japan. P. 1–2.
“Всегда, как только эти португальцы…”: Франческо Карлетти, цитируется там же. P. 49.
В течение первых десятилетий XVII века…: Andrew Gordon, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. New York: Oxford University Press, 2003. P. 17.
“Мы, японцы…”: там же. P. 64.
“Только для шлюх…”: Rupert Faulkner, “Personal Encounters: Europeans in East Asia”, in Encounters: The Meeting of Asia and Europe, 1500–1800, ed. Anna Jackson and Amin Jaffer. London: Victoria & Albert Museum, 2004. P. 180.
под влиянием труппы облаченных в кимоно…: Leslie Downer, Women of the Pleasure Quarters: The Secret History of the Geisha. New York: Broadway Books, 2001. P. 38.
“ – Вам нравится эта девушка?…”: цитируется в: Faulkner, “Personal Encounters”. P. 183.
На гравюре 1790– х годов…: там же.
писал итальянский торговец Карлетти…: там же.
буддийские монахи, которым запрещалось…: Downer, Women of the Pleasure Quarters. P. 39.
Алессандро Валиньяно…: Faulkner, “Personal Encounters”. P. 181.
Обитательницы кварталов развлечений…: Downer, Women of the Pleasure Quarters. P. 46.
наивысшим выражением японской тяги…: там же. P. 2.
“К середине XIX века…”: Leupp, Interracial Intimacy in Japan. P. 81–82.
лейтенант Джордж Генри Пребл…: там же. P. 145.
“Находилось немалое число людей…”: Эрнест Мейсон Сатоу, цитируется там же. P. 146.
“Каждый мужчина…”: там же. P. 154.
Отступление шестое. Комплекс Баттерфляй
“милой и по-детски доверчивой…”: Лафкадио Херн, цитируется в: Gary P. Leupp, Interracial Intimacy in Japan: Western Men and Japanese Women, 1543–1900. New York: Continuum International, 2003. P. 179.
“милому изяществу…”: сэр Эдвин Арнольд, цитируется там же. P. 164.
“бескорыстную преданность…”: Элис Мейбл Бэкон, цитируется там же. P. 179.
“В Японии никто и никогда…”: сэр Эдвин Арнольд, цитируется там же. P. 164.
“почитали разврат своим богоданным правом…”: Lesley Downer, Madam Sadayakko: The Geisha Who Bewitched the West. New York: Gotham Books, 2003. P. 68.
“цветочная красота” Японии…: Yoko Chiba, “Japonisme: East-West Renaissance in the Late 19th Century”, Mosaic. Winnipeg, Canada. P. 31, No. 2. June 1998.
искусствовед и художник Закари Астрюк…: там же.
Один критик написал…: Downer, Madam Sadayakko. P. 200.
Садаякко, как писал ее биограф…: там же. P. 201.
В истории Зибольда…: Jan van Rij, Madame Butterfly: Japonisme, Puccini, and the Search for the Real Cho-Cho-San. Berkeley, Calif.: Stone Bridge Press, 2001. P. 24.
Лоти написал роман…: там же. P. 25–31.
Один дотошный исследователь…: там же. P. 119–122.
Глава 11. “Я – сувенир. Ты – бум-бум”
“уничтожают наших соотечественников…”: Радио Освобождения, 8 ноября 1965 г., передача перехвачена Информационной службой иностранного радиовещания; Вьетнамский архив при Техасском Технологическом университете.
“порочная и непристойная ковбойская культура…”: там же.
“Совместная политика США и клики их марионеток…”: “Social Evils: U. S. Neocolonialism’s Residue in South Vietnam”, Hanoi International Service. July 14. 1975. The Vietnam Archive. Texas Technical University.
“Американцы в Южном Вьетнаме…”: Neil Sheehan, A Bright Shining Lie: John Paul Vann and America in Vietnam. New York: Random House, 1988. P. 598.
“длительным загулом за государственный счет…”: James F. Dunnigan and Albert A. Nofi, Dirty Little Secrets of the Vietnam War: Military Information You’re Not Supposed to Know. New York, St. Martin’s Press, 1999. P. 166.
“Тут повсюду творится разврат…”: Sheehan, A Bright Shining Lie. P. 598.
“за цевницами шли блудницы…”: “Disneyland East”, Time. May 6. 1966. треть американских солдат…: Dunnigan and Nofi, Dirty Little Secrets. P. 166.
из уважения к идеологии Зьема…: William Prochnau, Once upon a Distant War: David Halberstam, Neil Sheehan, Peter Arnett – Young War Correspondents and Their Early Vietnam Battles. New York: Times Books, 1995. P. 23.
“ошеломительная Saigonnaise…”: там же. P. 130.
“Фам стесь понравится…”: там же. P. 131.
По словам Шихана…: Sheehan, A Bright Shining Lie. P. 599.
Он рассказывал Халберстаму…: там же. P. 323.
“Мы проиграем…”: там же. P. 512.
Ванну стало известно…: там же. P. 516.
“Это был очень печальный опыт…”: Frank Maguire, “The Whole Attitude Was, Stand Back Little Brother, I’ll Take Care of It”, in Patriots: The Vietnam War Remembered from All Sides, comp. Christian G. Appy. New York: Penguin Books, 2003. P. 441.
“Там, на Китайском пляже…”: Элисео Перес-Монтальво, в интервью, данном Ричарду Беркс Верроуну 5 августа 2003 года; проект “Устная история” Вьетнамского архива при Техасском Технологическом университете, Лаббок, Техас.
“ Тайм” рассказывал о Городе Греха…: “Disneyland East”.
“Города Греха были публичными домами…”: Jim Cain, “Dazed and Confused: Vietnam, January 5th through December 8th 1970”, http://evationonline.com/dazed/dazedandconfused.htm.
“Мне кажется, многие девушки…”: Nguyen Ngoc Luong, “To Get Their ID Cards, the Girls Had to Go to Bed with the Police”, in Patriots, comp. Appy. P. 375.
“и в прямом, и в переносном смысле…”: E. W. Kenworthy, “Fullbright Issues a Warning to U. S.: Says Nation Is in Danger of Losing Its Perspective”, New York Times. May 6. 1966.
“Я не был в Сайгоне…”: “Back to the Brothel”, Time. May 20. 1966.
Лорд открыто заявила…: “Saigon No Brothel, Mrs. Lord Asserts”, New York Times. May 7. 1966.
“В родном штате Фулбрайта…”: “Back to the Brothel”.
“совсем как детишки…”: Майкл Харрис в интервью Стивену Макснеру, 22 августа 2000 г; проект “Устная история” Вьетнамского архива.
“Ее звали Ким…”: Фил Прайс, интервью Стивену Макснеру 1 августа 1999 г., проект “Устная история” Вьетнамского архива. “Вьетнамская девушка с автомойки…”: William Foulke Collection, Department of the Army Special Photographic Office, item VAS 031861. September 1967. Vietnam Center and Archive. Texas Tech University.
Уэйн Смит, военный медик…: Wayne Smith, “I Was Thanking God They Didn’t Have Air Support”, in Patriot, comp. Appy. P. 365.
“Бывало, ходишь по Сайгону…”: Дон Хэлси, интервью Эдвину Уайтингу, 9 апреля 1990 г., проект “Устная история” Вьетнамского центра.
“это был публичный дом…”: Smith, “I Was Thanking God They Didn’t Have Air Support”. P. 365–366.
в телеграмме, в целом оптимистичной…: телеграмма от американского посольства в Сайгоне госсекретарю США: реакция вьетнамцев на присутствие военных сил США, собрание Лари Бермана (президентский научно-исследовательский архив), 1 июля 1965 г. Вьетнамский центр и архив.
бригадный генерал Нгуен Чань Тхи…: “Сайгон пост”. 10 января 1964 г.
Глава 12. С мыслями о Нане, или Нои, или Ам
“Секс ради развлечения – превосходный вид спорта…”: Hanna Beech, “The Forgotten Angels”, Time. April 16. 2001 [Хана Бич, “Забытые ангелы”, “Тайм”. 16 апреля 2001 г.].
“Внезапно…”: John Burdett, Bangkok 8. New York: Vintage Books, 2004. P. 76.
“Они всегда приближаются…”: Кристоф Карл Фернбергер фон Эгенберг, цитируется в: Subhatra Bhumiprabhas, “History’s Wanton Women: The Journal of a 17th-Century Austrian Merchant Offers a Lopsided View of Siam’s Lewd Ladies”, Nation (Bangkok). July 23. 2007.
“Как только они договариваются…”: ван Нек, цитируется там же.
В Бангкоке джи-ай, у которых с деньгами…: Alan Dawson, Patpong: Bangkok’s Big Little Street. Bangkok: Thai Watana Panich Press, 1988. P. 47.
В конце 1960– х и в начале 1970-х…: там же. P. 18–21.
американец Рик Менард…: там же. P. 48.
Отступление восьмое. Сжимается сердце скитальца
Тайским национальным комитетом…: “Udon Thani Leads Nation in Foreign Husbands”, Nation (Bangkok). November 23. 2003.
В одной тайской газете…: “The Mia Farang Club: It’s Not Just about the Money”, Nation (Bangkok). June 14. 2004.
автор одного письма…: “Not Only Does the Govt Do Nothing for Mixed Couples, It Also Insults Them”, Nation (Bangkok). June 16. 2004.
“откупился от полка…”: Richard Francis Burton, Goa and the Blue Mountains; or, Six Months of Sick Leave. London: Richard Bentley, 1851. P. 130.
Глава 13. Выводы
“всех этих детских суждений…”: John Burdett, Bangkok Tattoo. New York: Alfred A. Knopf, 2005. P. 31.